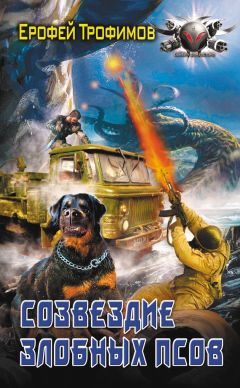так неожиданно, что капитан до сих пор ходит как чумной. Как, почему она там оказалась! Она сейчас в Сололаках, но ее страшно расспрашивать. Она всю ночь проплакала, – мы не спали, ходили кругом, а чем помочь – не знаем.
Даже капитан с ней нежен. Вы представляете капитанскую нежность, – нужны железные нервы, чтобы выдержать его заботу. Она сказала капитану только одно: «Я пришла к Пиррисону, чтобы помочь вам, – довольно вам этого». Капитан ответил: «Еще бы…» – и спасовал. Кажется, это первая женщина, с которой он считается всерьез. Дневник у нас. Я кое-что прочел, есть поразительные вещи. Насчет моторов, конечно, я ни черта не понял. Дело сделано. Вы поправитесь, и тогда мы двинем в Москву. Вот только за нее страшновато. Уж очень она ходит чудная.
Берг помолчал.
– Да… вот… Нелидова просила узнать, – ничего, если она придет завтра вечером?
Батурин молчал. От слабости у него кружилась голова. Берг добавил, глядя на пол:
– Когда Пиррисон выхватил револьвер, она толкнула вас в плечо, иначе кончилось бы хуже: он целил вам в голову. Вы должны повидаться с ней.
– Берг, – голос Батурина звучал глухо и печально, – Берг, я не скажу ей, что ненавижу ее. И вы теперь не сказали бы этого Вале, если бы можно было вернуть прошлое. Правда?
Берг наклонил голову.
– Мы друзья, – сказал он тихо. – Жизнь переплела мою судьбу с вашей. Я думаю, что мне осталось жить совсем не долго: сердце свистит, как дрянной паровоз. Сейчас не будем говорить об этом, по потом, когда вы поправитесь, вы расскажете мне все о Вале. Она не могла простить меня. Такие вещи не прощают. Она любила вас, – скрыть этого вы не можете. Ну что ж. Одним дано, чтобы их много любили, другим… Но не в этом дело. Жизнь раздвигается. Никогда я так не тянулся к жизни, как вот теперь. Мне нужно все, понимаете, все. Из этой жизни я создам хорошую повесть, и вы в этом будете виноваты.
Берг слегка потрепал руку Батурина.
– Ну, что же ей сказать?
– Можете сказать все, что придет вам в голову. Она должна прийти, – поняли? И капитан, и Глан, и Заремба – все!
Берг ушел, насвистывая. Сестра сделала ему замечание, – в больнице не свистят. Берг покраснел и извинился. На Головинском он купил жареных каштанов. По улицам бродил ветер и перебирал пальцами дрожащие яркие огни.
Ночь, стиснутая горами, казалась гуще и непроглядней, чем была на самом деле. Батурин смотрел за окно, считая звезды, насчитал тридцать и бросил. Мысли его разбегались. Тонкий свет ложился квадратом на пол у самой кровати, – в коридоре горела слабая матовая лампочка. Батурин дремал, множество снов сменялось ежеминутно. Тело тупо ныло, хотелось повернуться на бок, но мешала забинтованная рука.
Вечером ему делали перевязку. Он стиснул зубы, побледнел, но промолчал.
Утро пришло пасмурное. Сестра сказала, что на улице холодно. Около кровати потрескивало отопление. Батурин уснул, его будили два раза – давали чай и мерили температуру. Батурин покорно позволял делать с собой все, – сестра даже пригладила его волосы, он только устало улыбнулся.
Врач, перевязывая его, удивлялся его сложению, говорил ассистенту: «Смотрите, какое хорошее тело!» Батурин краснел. Ему казалось, что тело его налито жаром и болезнью, каждый нерв дрожал и отзывался на прикосновенье только что вымытых рук врача.
В сумерки он задремал и не заметил, как вошла Нелидова. Он дышал неслышно. Нелидова наклонилась к его лицу, – ей показалось, что он не дышит, и у нее замерло сердце. Она ощутила на своей щеке горячее его дыханье, села на белый маленький табурет и долго смотрела за окно. Ветер качал деревья. Сумерки казались уютными от освещенных окон.
Батурин открыл глаза, туманные от множества снов, увидел ее и спросил тихо:
– Что ж вы не разбудили меня?
Нелидова резко повернулась, тревожные ее глаза остановились на его лице. Она молчала, потом с ресниц ее сползла тяжелая слеза.
– Не надо плакать. – Батурин говорил очень тихо, задыхаясь. – Я причинил вам много горя. Если бы я мог, я давал бы таким людям, как вы, только радость… много радости, столько радости, что ее хватило бы на весь мир.
– Нет, нет, – Нелидова схватила его здоровую руку, щеки ее залил румянец. – Вы должны простить меня за Керчь, за разговор в Ботаническом саду.
– Я знаю все, что было там… в сорок девятом номере.
Он улыбнулся. Казалось, эта улыбка решила все, – годы тревоги, тоски, одиночества были позади. Она улыбнулась в ответ.
– Зачем вы пришли к Пиррисону?
Нелидова помолчала, потом нервно рассмеялась:
– Затем, что даже вот этот палец ваш не заслуживает смерти.
Батурин закрыл глаза, – голова сильно кружилась.
– Вот вы спрашиваете, зачем я уехала на Юг. Бежала. Бежала от кинорежиссеров, от сотрудников киножурналов, от операторов, от всех этих кинолюдей. Они носят толстые чулки, черепаховые очки, «работают» под американцев, в большинстве – они наглы и самомнительны. В провинции люди проще и человечнее. В провинции можно читать и гораздо острее чувствуешь. Даже заботы приятны: принести из колодца воды, пойти на рынок ранним утром, когда море слепит глаза. Я хотела отдыха, – не санаторного, а действительного отдыха: тишины, книг, любимой работы, неторопливости. Надо было разобраться в прошлом. И в Керчи я вас встретила враждебно, потому что вы принесли это прошлое.
Выздоровление свое Батурин ощущал как безмолвие, как осторожные шаги друзей – капитана, Берга, Зарембы, Глана, приносившего в кармане плоскую флягу с коньяком. Нелидова никогда не приходила одна, – всегда с Бергом или Гланом. Движенья ее были порывисты, она боялась молчанья.
Вся жизнь теперь была около больницы: Берг приходил и читал отрывки из своего нового романа. Капитан, успокоенный и иронический, снова обрел свой стержень и вращался вокруг него, как огненное колесо, разбрызгивая острые словечки и смехотворные истории. Глан бродил среди всех, как добрый дух сололакского дома.
Батурин выписался через две недели. За ним приехали Нелидова и Берг. Похудевший, он вышел на крыльцо, опираясь на плечо Нелидовой. Осень проносилась в прозрачном небе. Крепкий ее воздух обжигал губы.
– Обопритесь на меня крепче, – сказала Нелидова, – у вас кружится голова.
Она заглянула Батурину в глаза, и он подумал: «Как много в этом городе солнца».
На станции Казбек испортился руль. Седой шофер натянул синюю замасленную куртку и полез под машину. Серый и низкий «фиат» был еще тепел от стремительного бега над пропастями, шиферная пыль покрывала его лакированные крылья.
Внизу переливался через камни мутно-зеленый Терек. Казбек был в