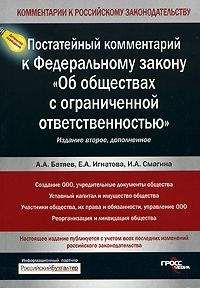– Я понимаю и не тороплю вас, да и спешить мне некуда – я свой выбор уже сделал.
После признания сердце Виктора успокоилось, сон нормализовался, и он вернулся к полноценной рабочей жизни в агентстве, был приветлив и уравновешен со всеми, с Натальей Петровной обсуждал только производственные темы и не касался более личных вопросов. Через три месяца Наталья окликнула его в коридоре, когда все, как всегда, спешили на очередное утреннее совещание:
– Виктор Степанович, если ваше предложение еще в силе, то я его принимаю. – И не поднимая глаз, проскользнула в зал совещаний на свое место за овальным столом, на ходу вынимая аккумулятор из телефона.
Со стороны могло показаться, что в стенах ведомства коллеги говорят о главном проекте агентства, а никак о личной жизни. Но когда по окончании заседания Виктор вставил аккумулятор и включил телефон, в тишину кабинета ворвался писк пришедшей эсэмэски: «Так мы идем завтра подавать заявление в загс? Твоя Н.» Лицо мужчины замерло, и взгляд устремился на Наталью, все посмотрели на Виктора, и только Наталья, не поднимая глаз, разбирала свои бумаги на столе и чему-то улыбалась.
– У вас все нормально, Виктор Степанович? – поинтересовался шеф.
– Спасибо, Сергей Васильевич, у меня все хорошо.
Наргиза проснулась ночью от приглушенных рыданий, похожих на те, что однажды слышала в детстве, когда у верблюдицы забрали дитя и та всю ночь безумно кричала уже осипшим от отчаяния голосом. Сегодня, в последнюю неделю карантина, ее, как и других девушек, перевели на этаж ассимиляции. Мужчин к ним еще не допускали, но свидетелями половой кухни они уже стали. Этаж был разделен на так называемые гостевые отсеки толстыми полупрозрачными стеклами, за которыми не было видно деталей происходящего, но само происходящее читалось вполне определенно. Кушетка, душ, унитаз, стопка белоснежных полотенец на пластиковой тумбочке с личными вещами – вот, пожалуй, и все убранство комнаты, если не считать камер внутреннего наблюдения, которые гарантировали строгое соблюдение правил половой жизни в казенном доме. Каждый половой акт был визуализирован и документирован на случай претензий по его искусственному прерыванию охраной ведомства. Любая противоестественная сексуальная связь, а также рукоприкладство, даже в виде безобидных шлепков по ягодицам нерусских девушек, немедленно прерывалась многочисленными ледяными струями из сопл пожаротушения, вмонтированных в потолок. Система охлаждения воды была выполнена по приоритетному госзаказу на одном из машиностроительных заводов, который до времен Горбачева выпускал ракетные двигатели для оборонки. Ее температура всегда была плюс полтора градуса по Цельсию, что мгновенно остужало любой сексуальный пыл, но не причиняло вреда здоровью. Охлажденные до дрожи тела любовников устремлялись под теплый душ, где происходило их окончательное примирение, а за ним и немедленное продолжение ассимиляционного процесса, в то время как обслуживающий персонал из числа волонтеров просушивал небольшую комнату тепловыми пушками и проводил замену белья. Столь строгие меры безопасного секса предпринимались не только из соображений предупреждения разврата в государственном учреждения: здесь место для реализации гражданской позиции, а не половой распущенности, – но и, главным образом, для того, чтобы сперма потенциальных отцов направлялась исключительно в плодотворное русло женщины.
Пять недель карантина пролетели, как во сне, и каждый день был похож, как брат-близнец. В карантине ощущалась ежедневная забота о физическом и психическом здоровье подопечных, и все необходимые диагностические и лечебные мероприятия подкреплялись изрядной порцией развлечений в виде просмотров веселых фильмов, выступлений известных певцов и артистов эстрады, а также выездными спектаклями на сцене ведомства, в которых были заняты актеры самых популярных московских театров. Половая ассимиляция не исключала культурную. И великая культура русского народа должна была проникнуть в нерусских женщин также глубоко, как и сперма его лучших представителей. Девушек с этажей ассимиляции Наргиза встречала только вечером на пляже, где они нежили свои обнаженные тела в лучах искусственного ультрафиолета, пытаясь слить с загаром многочисленные следы от мужских пальцев, которыми были покрыты их бедра, голени, плечи, груди, а у некоторых их можно было обнаружить даже на передней поверхности шеи, и тогда им приходилось сильно запрокидывать голову, чтобы неестественное солнце добралось и до этих противоестественных отметин страсти.
Сиреневая ночная подсветка соседнего отсека выдавала силуэт соседки, которая, крепко обхватив подушку тоненькими ручками, слилась с ней в единое целое и по форме напоминала загнанную в угол мышку, чья гибель теперь была предрешена. Находясь в этой безысходности, девушка-мышка тихонько раскачивалась на кушетке, и ее рыдания, становясь все тише и тише, в итоге перешли в один прерывистый стон, близкий по своему ритму к колыбельной мелодии. Наргиза видела, как в течение дня к ней приходили разные мужчины: и плотные, и худые, и высокие, и не очень, но все они были, судя по ритму движений, примерно одного возраста, и у всех были короткие стрижки. Не вызывало никакого сомнения, что это были солдаты российской армии, как и было обещано Наргизе и Гаджи модератором из России. Было приятно, что этот русский человек не обманул их ни в чем, и теперь дело только за малым и великим одновременно: забеременеть и родить ребенка. Весь день девушка за стеклом, словно на экране, играла роль хрупкого деревца с тощими ветвями, которое гнулось почти до земли в разные стороны под могучим напором ненасытной силы молодого ветра. Для Наргизы было странным, что незнакомка длительно прилипала своими губами к губам солдат и на какое то время сдерживала их порыв. Как такое возможно – целовать нелюбимого человека, да еще и в губы? Понятно, девочки-подростки, которые могут целоваться в засос и спать, с кем попало. Они только экспериментируют, набираются опыта, тренируют свои чувства и готовят организм к встрече с большой любовью. Но замужняя женщина, женщина, сделавшая выбор на всю жизнь, должна быть верна ему, и тут дело скорее не в возможной измене любимому, а в измене собственным принципам, которые формируют жизненную позицию, и разрушение этой основы жизни заводит сознание человека в тупик. Так, думала Наргиза, и произошло с ее соседкой. Нельзя любить каждого русского мужчину, который ложится на тебя. Они – просто доноры спермы, биологические отцы, и не более. Солдаты, конечно, достойны уважения, потому что их гражданская позиция делает жизнь твоей семьи лучше, обеспечивает ей стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Но уважение и любовь не идентичны. Любить надо своего единственного и реального отца своих детей, который примет тебя и их такими, как вы есть, и простит все, кроме того, что ты не сможешь простить себе сама. Стоны окончательно стихли, и тусклый свет слился с тишиной ночи. Три стеклянных экрана по периметру комнаты Наргизы не являли ничего, кроме статичных очертаний спящих девушек. Лишенная не по своей воле сна, Наргиза погрузилась в сновидения воспоминаний. Весь прошедший день, в буквальном смысле слова с утра до вечера, она оставалась пассивным участником происходящих вокруг нее событий. И хотя она не принимала в них физического участия, ее организм против воли реагировал на них весьма определенным образом. Как пассивный курильщик, чаще ребенок, страдает от неразумных взрослых, дымящих в его присутствии, так и женщина, часами наблюдая за чужими наслаждениями и почти ощущая их собственной кожей, требует в конце концов разрядки, и сама невозможность ее в насквозь просматриваемой комнате, конечно, – Наргиза была глубоко убеждена в этом, – наносит серьезный вред здоровью. Первое, еще неосознанное желание появилось рано. В одиннадцать лет она почувствовала нечто необычное, чем просто симпатия к учителю математики. Он появился в их школе в начале учебного года сразу после окончания столичного педагогического института. Крепкий, улыбчивый, с засученными по локоть рукавами цвета перезревшего хлопка, он с мелом в руке скорее походил на хирурга со скальпелем, чем на учителя, а его горящий взгляд выдавал желание действовать немедленно и решительно до полной победы над недугом. Уже после первого его урока Наргиза страшно испугалась от ощущения собственных мокрых трусов, девочка подумала, что месячные застали ее врасплох и промочили платье. Но, вбежав в туалетную кабинку, она не обнаружила и следов крови на своих действительно очень влажных трусах. Наспех просушив их туалетной бумажкой, Наргиза вернулась в класс и быстро забыла про странное происшествие. Но через день снова на уроке Расула Меджитовича с трусами повторилась та же история. Через месяц непонятных явлений в девочке поселился страх, как перед всем необъяснимым, и она решила сама во всем разобраться, так как стеснялась говорить об этом с мамой и подругами, и уж тем более не собиралась идти по этому поводу к школьному фельдшеру. Она строила разные фантастические догадки между собственными трусами и учителем математики, но они ей самой казались детским бредом. Однако какая-то связь теперь между ней и ним существует – она не сомневалась, и связь эта была совсем недетской, а вполне серьезной. В очередной раз, почувствовав странное напряжение внизу живота, как перед приходом женских дней, девочка отпросилась с урока труда и сразу после математики пошла домой. Бабушка, с которой она делила небольшую комнатку с наглухо зашторенными пестрой тканью окнами, дремала на скамеечке в палисаднике, обхватив деревянными иссушенными солнцем пальцами пластиковый стаканчик с семечками, и Наргиза, на цыпочках, предварительно освободившись от неудобных сандалий, проскользнула мимо нее в полуприкрытую дверь мазанки. В задумчивости девочка обхватила подушку и, повернувшись лицом к стене, улеглась на мягкий ковер, который застилал собой весь земляной пол комнатушки и, вместе с ее низким потолком, создавал иллюзию уютной норы, дарящей не только тепло, но и полную защищенность ее обитателям. Напряжение в животе стало отступать, веки отяжелели, и девочка увидела себя заблудившейся в пустыне, выбившейся из сил, лежащей на остывающем в лучах заката песке вне всякой надежды на спасение. Эта сцена в последнее время стала приходить к Наргизе перед сном почти каждую ночь, и в ней она могла полностью ощутить всю незащищенность и слабость своего женского начала, но все заканчивалось неизменно хорошо и красиво. Как только солнце зарывалось в песок, появлялся принц на белом коне или на верблюде в дорогой упряжи и вначале подносил горловину бурдюка с родниковой водой к ее сухим, потрескавшимся от боли отчаяния губам, а после сильными руками приподнимал над обездушенной зноем пустыней и бережно опускал на дорогое седло, а сам, взяв узды, шел рядом до самого рассвета, где на границе ночи и утра вырастал его дворец, и, войдя в него, принц вставал коленями на холодный белый мрамор перед Наргизой и просил ее стать хозяйкой дворца и его сердца. Вот и в этот раз ее усадили в седло боком по ходу движения, и перед глазами девочки открылся сказочный пейзаж: слияние меркнущего золота пустыни и черного бархата неба, на котором россыпью вспыхнули крупные алмазы, словно полные слез девичьи глаза. Принц показался ей знакомым, но не похожим на других из прошлых сновидений. Его лицо скрывалось за обилием роскоши головного убора и было едва различимо в полумраке, но твердые энергичные движения подчеркивали силу и молодость мужчины. У Наргизы возникло желание навсегда остаться во власти этой доброй силы нераскрывшимся бутоном мака, огонек которого необходимо питать любовью и оберегать от степных ветров жизни до самого ее горизонта. Верблюд, словно лодка на привязи, продолжал неторопливо раскачивать девичье тело, и от этого трение плотно сведенных ног отозвалось эхом реальности, вернув ощущение тепла, влажности и напряжения. Ритмичные движения девочки, преодолев границу грез, переместились из лодки на ковер, и Наргиза, приоткрыв глаза, перевернулась на спину. Она нерешительно направила руку к центру напряжения, при этом другой рукой задрав подол чрезмерно длинной юбки. Истонченная временем хлопчатобумажная ткань была немного влажной, и через нее легко прощупывались все детали скрываемого ею. Наргиза вновь закрыла глаза, и ее девичье тело, впитав умиротворение родной обители, окончательно рассталось с напряжением учебного дня. В этом полузабытье ей явился горящий взгляд Расула. Густой эфир его бархатного голоса, который теперь заполнял все вокруг и, казалось, вытеснял собою весь пыльный горячий воздух не оставлял дыханию никакого выбора и полностью заполнил легкие девочки, подобно наркотическому газу, окончательно введя ее в состояние наркоза, сорвал с сознания маску лицемерия и дал волю фантазиям. Она представила себя уже взрослой цветущей девушкой, невестой Расула, который был, как принц, во всем белом, и только все те же смуглые, по локоть обнаженные руки оставляли связь с реальностью. Пальцы ощутили прилив к ним горячей влаги, низ живота снова скрутило, и Наргиза невольно еще сильнее прижала руку к источнику непонятных ощущений, как бы сдерживая невиданную ранее силу, которая рвалась наружу. Образ принца, вопреки протестам сознания, стал более отчетливым, и губы его обрели сокрушающую разум притягательность. Поборов легкое сопротивление рассудка, Наргиза отдала свой поцелуй во власть жестких губ мужчины и прижалась к нему, ожидая крепких объятий. Сильные руки отозвались нежной взаимностью и дали ей возможность слиться в единое целое с любимым, теперь вне всякого сомнения, человеком. Восторг от нереальности происходящего окончательно сломил всякое нравственное сопротивление девочки, хватка собственных влажных пальцев уступила место призванным на помощь сильным пальцам любимого, и тот беспощадно стал защищать Наргизу от ее внутреннего недуга, с невероятной быстротой и силой теребя уже насквозь промокшую ткань, словно стирая скрипучее жало мела о школьную доску. Изогнувшись дугой, девочка жалобно вскрикнула и провалилась в глубокий сон, расставшись окончательно с напряжением последнего месяца. Противодействие непонятной ранее силе было найдено и, познав впервые страсть, Наргиза испытала не менее мощное лекарство от нее. В то время она была еще не знакома с любовью – прекрасным и неизлечимым состоянием.