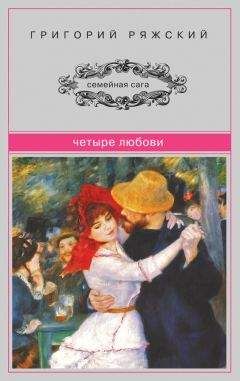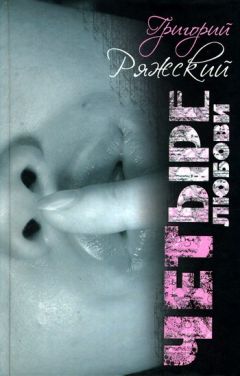– Свидетель Казарновский-Дурнев Лев Ильич! – объявил судья. – Что вы можете показать по делу?
– Дурново, – поправил Лева судью. – А не Дурнев.
– Кого? – не понял судья. – Я говорю, по делу что?
Лева внутренне махнул рукой и приступил к свидетельским показаниям:
– Представьте себе, – обратился он больше к залу, чем к суду. – 1981 год. Разгар брежневского правления. Международный конкурс плаката в Греции, посвященного инвалидам. – Он по-доброму посмотрел в сторону завсегдатаев – старичков и старушек. – Обвиняемый, Генрих Юрьевич, – участник от нашей страны. И этот человек, – Лева с гордостью посмотрел на Геньку, – придумывает следующее: четыре кисти рук, спаянные в замок. И одна из них – протез. И название: «ВСЕ ВМЕСТЕ!» А еще ниже – «ЛЮБОВЬ!». – Он перевел дыхание и взволнованно закончил доклад: – Четыре кисти – четыре руки – четыре любви человека к человеку. Греки такого еще не видели. И он ПО-БЕ-ДИЛ! Этот плакат висит сейчас в общественной приемной ЦК профсоюза работников культуры. И каждый раз, когда я прохожу мимо этого произведения, я горжусь, что этот человек – обвиняемый! – тут он смутился и быстро поправился. – Э-э-э… То есть я хотел сказать… что обвиняемый – этот самый человек!
Левка прощально посмотрел на друга и сел на место. Почти все из сказанного было импровизацией, но выстроенной на основе частично правдивых и при иных совершенно обстоятельствах имевших место фактах. Зал зааплодировал…
– Две-е-е, – наполовину шепнул, наполовину губами показал ему Генька, пока судья призывал зал к порядку. Лева не понял и вопросительно кивнул в обратном направлении. – Две любви, а не четы-ы-ы-ы-ре, – губами по-верблюжьи уточнил автомобильный художник, продемонстрировав кисти рук. – Руки – четыре, человека – два…
Геня никого не сдал и ни в чем не признался, и поэтому по 196-й статье – за изготовление фальшивых документов – получалось при максимальном сроке меньше, чем по 224-й – за хранение и распространение наркотических веществ. Распространение при помощи следака притянули, расфасовав Генькину дурман-траву по дозовым упаковкам, и получился законный семерик. Но с учетом такого неслыханного для Новомосковского суда Левкиного вмешательства с применением инвалидного человеколюбия Генрих получил не семь положенных лет, а шесть и без конфискации. Четырем глотовским быкам тоже дали сроки немалые, на них еще висела куча разного плюс рецидив, но на Глотова они работали не впрямую. Плакат с инвалидной любовью, спиритически выпрошенной Левой из спертого воздуха судебного зала, пролетел над головами присутствующих, плавно перекочевал в зону конвоя, чиркнул краем крыла по председательствующему, по обоим заседателям и, сократив Генику год отсидки, вылетел вон.
Вина же организатора преступных деяний Анатолия Эрастовича Глотова доказана не была, и прямо в зале суда он был отпущен на свободу сразу по оглашении приговора.
«Сукин сын…» – подумал Генрих. Но подумал он о соседе Казарновских не мстительно и без презрения. Скорее с легкой завистью провального художника к успешному…
О Генькином аресте стало известно в тот же день. К вечеру об этом узнала и Любовь Львовна. Она тихо ахнула и сползла со стула. Люба бросилась к свекрови и с удовольствием отвесила ей оздоровительную пощечину. Маленькая взвизгнула от восторга:
– Лев, а можно мне тоже?
– Исчезни, – шикнула на нее Люба. – Кому я сказала?
– А тебе понравилось, я видела, – сказала Маленькая и пристально посмотрела матери в глаза.
– Нет! – твердо ответил Лева. – Тебе нельзя. И бабушка здесь ни при чем. Генрих сам виноват. Его самого надо как следует стукнуть, хоть он тебе и отец.
Баба Люба открыла глаза, встала и, ни слова не произнеся, ушла к себе. С этой минуты путч перестал ее волновать вне зависимости от результата – как получится, так и будет. Но коробку и сопроводительную бумажку она все же перед сном поменяла местами – по короткой теперь уже сохранной схеме…
Когда стало окончательно ясно, что Генрих у Казарновских в ближайшие шесть лет не появится, в доме начали происходить зримые изменения семейной атмосферы. Часть из них носила быстрый и решительный характер, как, например, резкое снижение терпимости Любовь Львовны в отношении Любы Маленькой и заметное, но не категорическое охлаждение к Любе. Другая часть касалась стороны позитивной и адресована была в направлении, наоборот, вполне человечьем. А виной тому явилась зачастившая на «Аэропорт» Любаша. С ней по неведомым Льву Ильичу причинам его жена сближалась все усерднее и, как ему казалось, не без доверительной взаимности.
С Маленькой Любой все было более-менее ясно: Любовь Львовну просто бесило проявленное девочкой равнодушие к аресту и последующему заключению отца в тюрьму. И не то чтобы даже равнодушие: просто ничего, казалось, для нее не изменилось особенно: ну был, приходил, теперь посадили – сидит. Жалко папу, конечно, но папа ведь сам виноват, Лева говорил, его самого как следует надо было стукнуть. В отличие от всех прочих, Любовь Львовна поверить в Генечкину вину не хотела совершенно.
– Он человек искусства, – повторяла она сыну первые пару лет Генриховой отсидки. – Именно за него и пострадал. Он человек безотказный и бескорыстный. Он принадлежит народу, как и твой отец…
– Вот и занимался бы искусством, мам, а не лез в криминал, – раздраженно реагировал сын, не улавливая никак эту странную тягу матери в сторону Геника.
Мать пропускала встречные аргументы мимо ушей:
– А падчерица твоя, Любовь, безжалостная и бессердечная дочь. Она лишний раз никогда не поинтересуется, что там у отца в заключении. Как ему там? Сколько осталось?
– Он там портреты рисует тюремному начальнику. И натюрморты, – ответил Лева. – А тот их продает, и все довольны. За Геню вообще особо переживать не следует, мам. За него всегда все само решается. Его усилия никакого значения не имеют. В любом направлении. Он давно уже перешел в отряд созерцателей и поэтому может себе позволить паромом своим не управлять. Вынесет куда следует, по течению… – Он подумал об этом с легкой завистью, зная, что обречен на управление собственным паромом весь остаток жизни, и продолжил: – Так что Геня твой более-менее в порядке… А Маленькая, между прочим, об этом тоже знает, спрашивала недавно. Никакая она не бессердечная, просто она современный ребенок, у нее переходный возраст.
Лев Ильич сказал это и снова представил, как Маленькая сидит в кресле в его банном халате, задрав голые ноги на подлокотник, и как незадолго до этого пронеслась она мимо Левиного кабинета, легкая, упругая… Другая… И он снова поймал себя на том, что воспоминание это ему определенно приятно.
Что же они имели в виду, все эти греки-то глотовские? – Ему вспомнился последний ночной визит рыбака.
Мать не унималась:
– Подожди, сынок, вот перейдет она этот самый возраст и всем еще вам устроит. Вот увидите…
Что и кому Люба Маленькая должна устроить, Лев Ильич выяснять не стал, полагая, что на сегодня терапии достаточно. Отвечать он не стал, но взгляд его сделался рассеянным и потерял сыновью внимательность. От Любови Львовны такие мелочи ускользнуть не могли никак. Она поджала губы и притворно вздохнула, подводя обычный итог каждому случаю общения с сыном:
– Никому я в этом доме не нужна. Папа меня предупреждал перед смертью: «Не позволяй никому садиться себе на голову. Все этого только и ждут…»
Это была неправда. Об этом знал Лева, и Любовь Львовна знала, что он знает, но значения это для нее не имело никакого. Ей важно было в отсутствие Генечки заполнить получившуюся паузу правильной смесью почитания и любви. Но нужный объект не находился…
К этому моменту в дом и зачастила Любаша. Чаще ее вызванивала Люба и зазывала на «Аэропорт» по самым несущественным поводам. Поначалу Лева думал, что это делается женой из жалости и сострадания к его первой жене, к ее никчемности и одиночеству. Отчасти он Любку понимал – это была частичная компенсация за историю с неудавшимся сватовством. Понимал он также, что история эта сделала Любашу еще несчастнее, чем она была раньше, и знал, что некоторое бремя вины ощущает и его сердобольная Люба.
– Мам, а зачем она к тебе ходит, курица эта? – спросила однажды Люба Маленькая у матери. – Она же Левиной женой была раньше, а еще замуж за папу хотела, да?
– Она тебе не курица, – строго сказала Люба. – Никогда не называй людей обидными прозвищами.
– Она не мне курица, – не растерялась девочка. – Она вообще курица, всем – курица. Она что, не может другого мужа себе найти, что ли? – И, не дожидаясь ответа, уточнила: – У нее кофта дурацкая очень, у нас химичка тоже в такой ходит, тоже очкастая, как она. Все химички одинаковые. Пусть лучше ваша Любаша кофту эту не надевает, а то от нее все мужики шарахаться будут.
Последние слова Маленькой услышала свекровь. Она вошла на кухню, где в это время Люба кормила дочь обедом, и тотчас воспользовалась ситуацией: