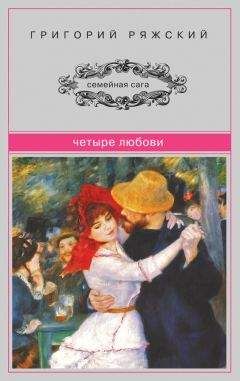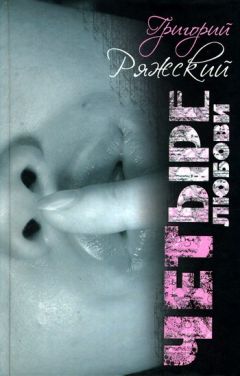– Глотов!
Глотов усмехнулся и окончательно приобрел знакомые черты:
– Глотов-то Глотов, конечно, но я больше грек, чем Глотов. Давай сушиться. Пойдем туда. – Он кивнул на гостиную. – Пока дойдем, я подсохну немного. Раздеваться не буду, потом все одно снова нырять придется.
– За бульдозером? – спросил Лева, совершенно не удивившись такому повороту событий.
– Не совсем, – ответил грек, отжимая воду из шапки. – Мокрая, – ласково добавил он, пробуя воду на вкус. – Наша, ладожская. Я не успел там еще дно хорошо проверить и глубину засечь. Мне потом надо будет точно знать – на кивок или все же на мормышку удачливее будет. Глотов-то про это доподлинно знает. Тот, что летал там поначалу. Он тогда рассказывал, интересовался у одного капитана. На месте лова. Мне страсть как интересно тоже узнать.
– У капитана корабля? – уточнил Лева. – Рыболовного?
– Не-е, у военного капитана. С погонами, он там тоже ловил. Или просто был, по случаю.
– Это вы, наверное, у моего отца в пьесе вычитали, – пожав плечами, сделал предположение Лев Ильич, удивляясь самому себе, для чего он ввязывается с греком в этот нелепый разговор. – Ситуативно очень напоминает…
– Потому что как было, так и есть, – невозмутимо сделал грек очередную объяснительную попытку и, махнув мокрой головой в глубину квартиры, подвел итог: – Ну идем туда или как?
– Да, да, – засуетился Лев Ильич. – Прямо прошу, все время прямо.
Глотов перекинул костыль на один пролет по ходу к гостиной, переступил и подтянул вслед за собой протез.
– Неудобно все ж, – пробормотал он. – Больше так не появлюсь, доходягой. Это все потому, что любопытство меня одолевает: чего он там увидал тогда в воде, тот Глотов? – Грек остановился посреди коридора и просительно посмотрел на Леву. – Слушай, Левушка… Если он к тебе теперь заявится, ты виду не показывай, а выпытай просто у него, чего он больше моего знает. Про что. Ладно?
– Ладно, – пообещал Лев Ильич с некоторым сомнением относительно всего происходящего, а сам подумал: – Только бы мать не проснулась раньше времени. И Люба тоже… И Маленькая… – Ему стало вдруг неспокойно. – А сколько времени-то вообще? – подумал он, и перед глазами его возник отцовский будильник, тот, который с фронтовых корреспондентских поездок и на котором все в порядке: и часы, и минуты, но при этом – ничего ненормально в связи с отсутствием главного показателя – времени.
– Работает он, работает, – убедительно сообщил грек и перекинул костыль по новой. – Не дергайся…
– А я и не дергаюсь, – с независимым видом ответил Лева. – Идем уже, наконец.
Внезапно все аэропортовские спальни распахнулись, и стало совершенно светло, как при полном дневном свете. Из опочивальни Дурново вышла Любовь Львовна и двинулась по направлению к Левиной спальне. Она вежливо обогнула сына и его ночного гостя, уже подсохшего, но все еще влажного, перепрыгнула через растекшуюся вокруг них лужу, отметив по пути:
– Ла-а-а-дожская… – И ни слова больше не говоря, продолжила перемещение вдоль длинного коридора. Навстречу ей, из их с Любой комнаты, вышли Люба и Любаша. Они были в паре, со сцепленными в перекрестье руками, более того, щека к щеке, и сразу, не сговариваясь, взяли курс на спальню свекрови, тоже вежливо и без единого слова разойдясь сначала с Любовь Львовной, затем переступив по очереди через мокрое, а потом уже деликатным втягиванием животов пропустив вперед мужчин. Рук при этом они старались не расцеплять. Из своей комнаты почти в то же самое время вылетела Люба Маленькая, совершенно голая. Лева забыл на мгновение про грека и родню, отметив про себя, что тело падчерицы стало еще более зрелым, точеным и вожделенным. Грудь Маленькой при каждом прыжке подбрасывало вверх, и тут же она упруго возвращалась на место, делая полтора качка туда-сюда. Девчонка по-оленьи пронеслась вдоль коридора, мелькая в изворотах черным плотным треугольником лобка, опередив по пути бабаню, затем сунула нос в родительскую спальню, быстро выскочила оттуда и понеслась мелькать в обратном направлении. Догнав мать с Любашей, она заскочила сразу перед ними в опочивальню Дурново, тут же дала задний ход и унеслась в кабинет отчима. Мужчины переглянулись и продолжили путь в гостиную. И когда грек перебросил костыль в последний раз, дверь в спальню Любовь Львовны тихо прикрылась вслед за Любой и Любашей, его собственная дверь – за матерью, а дверь Маленькой – за ней самой, куда она окончательно вернулась, нанеся визит постоянному месту Левиного сочинительства.
Грек вошел в гостиную и опустился в кресло:
– Все! Теперь тебе, Левушка, никто мешать не будет. Некоторое время…
– Что это было? – спросил Лева и тоже сел.
– Что бы-ы-ло, что бы-ы-ло… – не очень вежливо протянул гость. – Все было! – Он с укоризной взглянул на Льва Ильича. – Я же говорил тебе в прошлый раз, кажется, или еще раньше: греческий учи лучше. Я тебя зачем его учить отправлял в свое время, помнишь? В шестьдесят седьмом.
Лева не собирался подчиняться так легко, тем более совершенно не понимал, о чем идет речь.
– Слушайте, Глотов! Или как вас там еще… Грек! При чем здесь ваш греческий, в конце концов? Ну отбыл я его в университете кое-как. Отбыл и забыл, как тому и положено. По мне, теперь хоть греческий, хоть древнееврейский. Я ни объясняться с его помощью, ни манускрипты разбирать никакие не собираюсь.
Грек выслушал Левину тираду невозмутимо.
– Насчет евреев согласен. Если в синагогу не идти работать, язык ихний не нужен ни по какому. – Он усмехнулся чему-то своему. – Не жить же там, да? – Он весело хохотнул, подчеркивая абсурдность идеи. – А насчет первого ты не прав. Тебе без этого сейчас никак не разобраться. В самом себе. В своем собственном жилье, изнутри…
– Да что такое, черт возьми?! – вскричал Лева, начиная терять терпение. – В чем без греков этих я не могу разобраться?
Глотов стянул с себя башмак, тот, который не на протезе, выцедил из него на паркет остатки ладожской влаги и попросил хозяина:
– На батарею не поставишь, Лев? А то тяжело мне ковылять туда. Несподручно.
Лев Ильич вырвал у него из рук башмак, подошел к батарее и с силой засунул его в пространство между радиатором и подоконником.
– С любовью… – тихо и отчетливо произнес Глотов – С любовью внутри себя. А она ведь очень разная есть. И все они тоже разные получаются, любови.
Лева вздрогнул и медленно развернулся к греку лицом. Перед ним сидел тот же самый гость, тот же Глотов, но… уже другой. Лева знал это точно. Он тоже был небрит, и на нем также не было одного башмака, и был он не окончательно еще просохший, и, вероятно, тоже – от ладожской воды из пруда, стерегущего аэропортовских писателей от пожара, но лицо… Глаза его смотрели на Льва Ильича внимательно и строго.
– Вспомните, Лев Ильич, – обратился он к Леве так, как не обращался никогда до этого, – как в греческом языке обозначается слово «любовь»?
– Любовь? – растерянно переспросил Лева. – По-гречески? – Он пожал плечами. – Ну там несколько есть вариантов, точно не припомню. Это зависит от рода отношений между людьми, от свойств и сил природных и обретаемых вроде бы…
Глотов улыбнулся:
– А конкретно?
– Ну что-то там такое… Филия, я помню, и еще чего-то… А зачем вам?
– Это не мне нужно, Лев Ильич, это вам теперь необходимо помнить постоянно. Ваши многочисленные любови и Любови требуют точного местоположения в пространстве и чувстве. Иначе… – Он замялся. – Могут возникнуть некоторые неудобства с домочадцами… Даже осложнения… – Он снова пожевал губами, подбирая нужное слово. – Мой коллега пытался вам объяснить, но, к сожалению… м-м-м… не очень ловко.
Лева потерял последние признаки агрессии и опустился на пол рядом с батареей.
– Вы хотите сказать… – неуверенно произнес он.
– Ну хорошо, я постараюсь вам напомнить, что я имею в виду, – мягко улыбнулся Глотов и посмотрел умными спокойными глазами на Льва Ильича. – Филия! Вы совершенно верно обозначили эту любовь – любовь с оттенком дружбы. Вы это вряд ли помните, но это именно она. Что осталось? А вот что – сторге. Любовь с оттенком нежности. Он повторил еще раз, явно наслаждаясь звучанием греческого слова: – Сто-о-о-рге! Идем дальше: агапе! Любовь-жертвенность. Жертвенная любовь! Понятно, о чем речь, надеюсь…
Лев Ильич слушал как завороженный. И действительно, этот Глотов, именно этот, последний из навещавших его греков, гипнотизировал его совершенно. Он говорил сейчас самые простые вещи, понятные любому первокурснику классического отделения филфака МГУ, каким когда-то был и Лев Ильич Казарновский-Дурново. Но тогда это почему-то пролетело мимо Левиных ушей, не коснувшись ни сердца его, ни мозгов, не задев и любой другой плоти молодого студенческого организма и не оставив никакой памяти об этом нигде больше…
– И наконец, – продолжал Глотов, – эрос! Любовь-страсть! Э-рос! Последнее из основных! – Он и сам перевел дух. – Во всем этом, Лев Ильич, следует серьезно разобраться, очень серьезно. В вашем доме многое перемешано и потому – напутано. То ли Любовей в переизбытке, то ли любовей в недостатке.