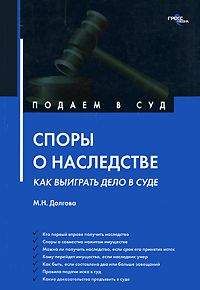– Да, – сказал он. – Хотите коньяку?
– Нет, – сказал я.
– Я позволю себе, – сказал он, – если у вас мало денег, я позволю себе, с вашего разрешения, угостить вас коньяком.
Я постарался рассмотреть его внимательнее. Русые, зачесанные назад волосы, толстые очки, острый нос, заношенный свитер в бледных крупных узорах.
– Нет, нет, спасибо, – сказал я. – Не в деньгах дело. У меня живот болит от коньяка и вообще от всего резкого и острого.
– А изжога бывает? – спросил он.
– Да, – сказал я.
– У вас антральный гастрит, – сказал он. – Поздравляю вас! У меня тоже. Пожмем друг другу руки.
Мы пожали друг другу руки и поговорили еще минут пять – буквально ни о чем. О погоде, о котлетах и о том, чем лечить изжогу. Странный разговор двух очень молодых людей вечером в баре. Где мальчики кадрят девочек, где все курят, кисло пахнет пролитым пивом и отовсюду раздается то смех, то гогот, то перепалка.
Вдруг мне показалось, что он знает что-нибудь про девочку Асю, про ту самую, которая зимой. Которая в черной шубке. Которую я почему-то не повел к себе в гости. Сказал какие-то странные, не свои слова: «Прости, сегодня я не могу тебя принять».
Вообще-то глупо, находясь в Риге, вот так сидеть и мечтать найти эту Асю, да и вообще кого угодно из рижских жителей. Наверно, это было не так уж трудно. Тем более что в писательском доме я жил вместе с мамой, а мама-то уж наверняка знала адрес и телефон ее родителей. Ну и вообще, существуют справочные бюро: на каждом вокзале, в каждом городе, да и не только на вокзале, стоят такие будки под названием «Горсправка». Ну и конечно, «Рига-горсправка» тоже была. Не поленись, мой дорогой, доезжай до Риги – ведь всего полчаса на электричке. Найди такой киоск, напиши запрос, и через полчаса тебе выдадут бумажку с адресом и телефоном.
Но нет. Это было неинтересно. Или просто в голову не пришло, как довольно часто не приходят в голову самые простые и очевидные вещи.
Я вспомнил про девочку Асю и спросил у этого незнакомца (кстати, мы так и не представились друг другу).
– Вы знаете, – сказал я, – когда-то, лет пять назад, я здесь познакомился с одной девушкой.
– И что? – спросил он.
– И вот я хотел спросить, а вдруг вы случайно…
Он не дал мне договорить. Он ужасно обиделся.
– Ха-ха-ха-ха! – искусственно засмеялся он. – Вы в Москве, наверное, думаете, что Латвия – такая маленькая страна, а Рига – такой крошечный город, что тут все друг друга знают, как в деревне? Это не так. Это совсем не так, – сказал он и отодвинулся от меня.
На этом наш разговор и закончился.
Я, как человек мягкий и, наверно, добрый, попытался сказать что-то вроде: «Ах, извините, я не хотел вас задеть. Я прекрасно знаю, что Рига огромный город, но я просто подумал: вдруг случайно, может быть, мало ли что». Но он молчал и надменно курил, отвернувшись.
Вот и весь разговор. Я не знаю, что он от меня хотел. Может, просто сказать два-три слова, а потом срезать своего собеседника. Бывает и так.
Всё бывает.
Вот я сказал: я, как добрый человек. И вспомнил историю, смешную и странную. Еще более странную, чем разговор с этим несостоявшимся собеседником в кафе около церкви в Дубултах.
Однажды, классе в восьмом или девятом, мы стояли после уроков на школьном дворе. Человек десять ребят, и девчонки, кажется, были тоже. Я всех помню по фамилиям и в лицо. Но не в том дело. Не о том речь. А речь о том, что в разговоре я сказал: «Но я, конечно, как человек очень добрый, не мог поступить иначе…» – и еще что-то в этом роде. «Что? – вдруг закричал мой друг Володя Зимоненко, которого мы звали Вэл. – Что ты сказал?» «Я сказал, что иначе не мог поступить», – сказал я. «Постой, постой, – заржал Вэл. – А до того ты что сказал?» «Я сказал, что я добрый». «Ребяяя! – закричал Вэл. – Драгунский говорит, что он добрый!» Все обернулись, посмотрели на меня и тоже заржали. «Вы чего?» – спросил я. «Это ты чего? – сказал Вэл, совершенно искренне, совсем непритворно. – Ты в самом деле думаешь, что ты добрый?» «Ну да, – сказал я. – А что?» «Вынужден тебе сообщить, – объявил Вэл под хохот всех ребят и девчонок, – ты не только злой как собака. Ты еще и тупой как полено». Конечно, надо было кинуться в драку, но я был настолько ошарашен и просто-таки убит, что пролепетал: «А почему?» «Потому что ты сам не понимаешь, – сказал Вэл, – какой ты на самом деле злобный тип. Но это я любя, любя, по дружбе!» – заключил он и крепко обнял меня за плечи.
Я потом целый месяц, наверно, ходил сам не свой и осторожно задавал вопросы то маме с папой, то знакомым девчонкам из других школ: «Так какой же я на самом деле?» Но я понимал, что нельзя задавать этот вопрос прямо, что за ерунда: «Мамочка, папочка, скажите, пожалуйста, я добрый или злой?» Конечно, они скажут: «Добрый». Они же меня любят и не захотят огорчать. Я вспоминал знаменитый детский анекдот про то, как мальчик приходит домой из детского сада и говорит: «Мама! Меня дразнят, что у меня голова квадратная». А мама, гладя его по голове, рукой рисуя в воздухе квадрат, отвечает: «Наговаривают, наговаривают!» Нет, спрашивать нельзя. Надо как-то обиняками. Но как – совершенно непонятно. Наверно, надо что-то сделать, кому-нибудь помочь: проводить девушку до дома, неся ее портфель или какую-нибудь сумку с продуктами, если ей велено по дороге зайти в магазин, или дать двоечнику списать задание. И чтоб мне сказали: спасибо, какой ты добрый… Но у меня не было знакомых девчонок, которых по дороге из школы посылали в магазин. А что касается заданий, то я и сам учился не так чтоб на пять с плюсом и сам норовил списать или чтобы мне продиктовали по телефону. Так что не было у меня никакой возможности проверить, добрый я на самом деле или злой. И вспомнить я не мог, почему ребята считают меня злым. Может быть, потому что в шестом и седьмом классе я дрался больнее всех? Это правда. Норовил до крови, по носу или по зубам. Но это уже сколько лет прошло! Неужели они такие злопамятные? Сплошные загадки.
Подул ветер.
Я поднял воротник своей куртки. Начал капать дождик. Я встал со скамейки и обернулся к стеклянному окну станционного буфета. Мальчик и дяденька изо всех сил махали мне рукой и что-то показывали. Зонтик, боже мой! Я забыл в буфете зонтик. И они звали меня, чтобы отдать. Я благодарственно помахал им рукой и вернулся. Они сидели за одним столом, я говорил; но мне уже было всё равно. Ну, в смысле, я не обращал на это внимания. Я перестал о них думать. Я думал о том, что всё равно не разыщу эту Асю и не задам ей самый главный вопрос. Дяденька, едва привстав, протянул мне мой зонт – старенький зонтик в футляре. Который я, не знаю как, ухитрился забыть в этом буфете. Я же не выкладывал его наружу. Он был очень маленький, и я держал его в кармане. В глубоком левом кармане куртки. Наверно, я его выронил на пол и не услышал, потому что как раз в это время к станции подъезжала электричка. Мальчик встал, подошел к буфету, вернулся, держа в руках три большие пластиковые стакана с пивом. Он их держал в обхвате ладоней, растопырив пальцы. Поставил на стол. Пододвинул один стакан ко мне.
– Благодарю, – сказал я. – Сколько с меня? Хотя на самом деле я не пью пиво.
– Знаю, – сказал мальчик.
– Зачем тогда принес? – спросил дяденька.
– Так, – сказал мальчик.
– Отнеси пиво назад, – сказал дяденька, – а ему принеси чай.
– Обратно не возьмут, – сказал мальчик. – Мы его разделим. – И обратился ко мне: – Чай черный, зеленый?
– Спасибо, я не хочу чая, – сказал я. – Только что выпил чашку.
– Сразу видно, что вы из Москвы, – сказал дяденька. – У нас, когда тебя угощают пивом или чаем, не принято фыркать и говорить: «Пива я не пью, а чаю не хочу».
Мне не понравился этот разговор.
– У вас принято угощать насильно? – сказал я. – Не может быть! Я живу в Риге уже целый год, ежели в сумме. И в меня никогда насильно не вливали ни пива, ни чая, ни водки, ни коньяка. В Москве или, скажем, в Тбилиси – это сколько угодно. Пей, если уважаешь, и всё такое. А здесь ведь Европа, нет?
– Да, но здесь не принято фыркать и отказываться, – сказал дяденька. – Принято в ответ сказать: «Спасибо. Как поживаете? Как погода? Как вам этот бар?» А пиво, в конце концов, можно и не допить. Так, пригубить для приличия.
– Рига – очень большой город, – сказал я, – и поэтому вы, конечно, никого из моих давних знакомых не знаете.
– Конечно, – сказал дяденька.
– Я здесь когда-то знал одну девочку, – сказал мальчик.
У родителей в Риге были друзья, Вита и Гриша. Фамилия Черновицкие. Познакомились в туристической поездке в Болгарии.
Вита была Черновицкая по мужу он был русский, а она была дочерью крупнейшего латышского художника-коммуниста – причем коммунистом он стал очень давно, чуть ли не до семнадцатого года, так что он был не просто коммунист, а настоящий старый большевик. Коммунистом он был и во времена независимости (говоря на советском языке – «в период буржуазной республики»). Вдобавок он был убежденным реалистом. Ничего похожего на рижских экспрессионистов-модернистов-декадентов, вроде Екаба Казакса и Карлиса Падегса. Никаких кафешантанов, игорных домов и полуголых девушек из квартала красных фонарей, не говоря уже о «Мадонне с пулеметом». Впрочем, судя по содержанию картин, эти господа тоже были левыми (уже не в советско-интеллигентском, а в точном смысле слова), но что касается формы – один сплошной авангард.