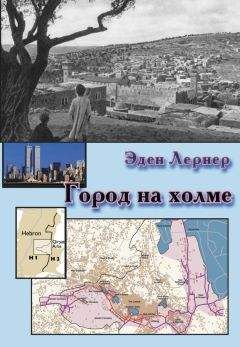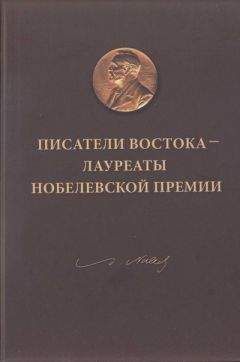Я быстро закончил с ковром и занялся ребенком. Искупались, поели, постригли ногти, закапали в нос капли. На стадии капель Офира перестала мне улыбаться таинственными улыбками Моны Лизы и заявила свой протест. Но даже протест в ее исполнении был тихим и очаровательным. Они унаследовали от нас каждый свое. Реувен – мою склонность руководить и Малкину − кричать. Офира – мою молчаливость и Малкино обаяние. Жалко, что больше у нас детей не будет, интересно смотреть, какие они выходят. Потом я сделал то, что делают все нерадивые отцы. Вместо того, чтобы заняться с ребенком чем-нибудь развивающим, я отнес ее в нашу спальню, положил рядом с собой на кровать и включил компьютер. Обычно люди смотрят спорт или новости, но я хотел расслабиться и включил выступления корейского, естественно, женского, танцевального ансамбля. Все там было сугубо невинно, именно так, как я хотел. Просто любовался их движениями и удивлялся как можно одновременно петь, танцевать и улыбаться. Восточноазиатские женщины − это просто совершенство. Придет моя, живая, скажет мне, что посуду бить не обязательно и что таким асоциальным личностям, как я, надо жить в караване на курьих ножках. И глаза при этом будут нэсуот аль баала[265]. Я не понимаю, как можно подтрунивать над человеком и при этом с обожанием на него смотреть. Не понимаю, но все равно приятно. Офира на какой-то момент перестала по мне лазить, уставилась в компьютер и восхищенно закричала:
− Има!
Вот тебе звоночек. Твой ребенок уже путает родную мать с посторонними тетками. Нет, пора завязывать с этим делом. Я же не за экзотику люблю Малку. А Офира в своем репертуаре. Знает, может быть, десять слов на обоих языках, но четко понимает, с кем на каком языке говорить. Это тебе не Реувен, у которого русский и иврит идут потоком, а поймут его или нет, это, как он считает, не его проблема. Я захлопнул компьютер. Ну чем развлечь эту мелочь? Или пусть сама себя развлекает?
Раздался звонок в дверь. Плакало мое уединение, сейчас по квартирам начнет бегать ребятня с мишлоах манот[266]. И не открыть дверь нельзя. Именно так я заработал первые свои деньги, именно это было одним из самых светлых моих детских воспоминаний, а было их очень немного. С Офирой на руках я вышел в прихожую и, не поглядев в глазок, открыл дверь. На пороге моего дома стоял, ни много, ни мало, командующий хевронским военным округом в сопровождении двух офицеров.
− Где она? − не слишком вежливо спросил я. Меня охватила такая же паника, как пять лет назад, когда я решил, что Натан заперся в туалете и режет себе вены. Такая же, только в сто раз сильнее.
− Кто? – удивился полковник.
− Моя жена.
Люди переглянулись.
− Мы не знаем, где твоя жена. Мы надеялись найти ее здесь.
− Заходите, – я отступил от двери и жестом пригласил их войти. Не разговаривать же через порог.
Мы сели в салоне, а я соображал, зачем они, собственно, сюда явились, причем явно не по мою душу. Что Малка могла натворить? Накричала на кого-нибудь из иностранцев? Но эти вещи в ведении полиции, а не армии. Зачем нигде не военнообязанная Малка им понадобилась?
− Ты следишь за новостями? – спросил командующий.
− По радио, каждое утро, по дороге на работу. А что?
− Тебе имя Валид Иссам Кобейри ничего не говорит?
− Это который голодовку объявил?
− Он, сердечный, – усмехнулся один из офицеров. – Уже два месяца голодает.
− Чего он хочет?
− Чтобы его отпустили и извинились. Он из тех, что организовывает убийства, а не исполняет непосредственно. Потому и зацепить его трудно. Те непосредственные исполнители, которых мы раскололи, никогда не выступят в открытую. Вот и получается, что доказательств куча, а предъявить в суде нечего.
Теперь я начал вспоминать. Надо отдать арабам справедливость, этот пропагандистский спектакль им удался. Узник совести, голодающий за решеткой израильской тюрьмы. Предъявите мне обвинение или отпустите. На Израиль отовсюду сыпались окрики и выражения обеспокоенности. Если где-то у приемников сидят инопланетяне и прослушивают нас, у них, наверное, сложилось впечатление, что нет на планете Земля более гонимого существа, чем Валид Иссам Кобейри.
− Хорошо, но причем тут моя жена?
Все трое обменялись обеспокоенными взглядами.
− Мы конфисковали его коллекцию дисков. Я уже блевать больше не могу, но я должен все просмотреть. На одном диске он пытает женщину, похожую на твою жену, и обращается к ней на иврите. Это возможно?
Я выдержу. Я не раскисну. Малке было хуже.
− Да, это возможно. Я могу взглянуть на диск? Только без звука.
Один из офицеров достал из кейса компьютер, раскрыл. Курсор забегал, и как черный провал в ад, возник маленький экран посередине большого, а в нем – Малка, без одежды, привязанная к радиатору. Невидимый оператор приблизил камеру к ее лицу. Плотно сжатые веки, закушенные губы, дорожки от слез на щеках.
− Има! Бо-бо! − раздался пространный комментарий у меня над ухом. Я опомнился и прижал личико Офиры к своему плечу.
− Эта она. Хватит.
Компьютер захлопнулся, повисло тяжелое молчание.
− Где она? – глухо спросил полковник.
− В синагоге Тиферет Авот. Мегилу слушает. Я ей СМС напишу.
− Хорошо. Лиор, бери машину и езжай за ней.
Захлопнулась дверь. Надо было предложить людям кофе, но я не мог издать ни звука.
− Я сразу ее узнал, – медленно сказал командующий. – Твою жену сложно не запомнить. По многим причинам.
− Вы установили дату записи? – выдавил я из себя наконец.
− Апрель 2005-го. Теперь я смотрю на тебя совсем по-другому, Стамблер. Мне двух просмотров хватило, и я уже хотел их всех убить. А каково тебе?
− Каждый из нас сдерживается. Изо дня в день.
− Но каков гусь, а? Он еще смел жаловаться на плохое обращение.
Снова наступила тишина, прерываемая лепетом Офиры и трелями дверного звонка. Я судорожно обнимал теплое маленькое существо, как тонущий из последних сил цепляется за деревяшку. Она делала нестерпимую боль терпимой. К тому времени как пришла Малка, Офира уснула прямо на мне.
− Где Реувен? – спросил я.
− Остался на карнавал. Гельфанды его приведут.
Реувен и Матанель Гельфанд дружили − не разлей вода. Я долго объяснял Реувену, что друг это не собственность, и когда он это понял, то все стало нормально.
− Малка, где вы были в апреле 2005-го?
− Я знала, что кто-нибудь когда-нибудь об этом спросит. Я была в Узбекистане, в плену.
− Вас пытали?
− Да.
− Кто?
− Я мало успела о нем узнать. Не очень-то и хотелось. Во время этих сеансов он рассказывал мне по-английски и на иврите про ужасы оккупации. Он говорил, что сидел в тюрьме.
Полковник выложил на стол фотографию.
− Узнаете?
− Узнаю.
− Значит, вот он, наш узник совести. Лицо палестинского сопротивления.
Малка засмеялась жутким надтреснутым смехом, задрав лицо к потолку. Совсем как покойная Офира. Звук был такой, что содрогнулся седой человек с парашютными крыльями на груди и беретом десантника под погоном. Смех прекратился так же внезапно, как начался, она стояла перед нами в летящей белоснежной юбке и приталеной синей жакетке с тремя массивными застежками. Воплощение скромности и утонченности.
− Что вы хотите с ним делать?
− Предъявить ему обвинение в издевательствах над вами. У нас есть та хроника, которую он заснял.
− Я готова. Все, что нужно, я сделаю. Только не дайте ему помереть. Выводить из голодовки следует очень аккуратно. Я не медик, но мой отец держал голодовки в советских тюрьмах.
− Мой тоже, – подал голос офицер с компьютером. – в Перми.
− А мой в Мордовии, – улыбнулась Малка.
− Вы бы еще всю Сибирь вспомнили, – хмыкнул командующий, но напряжение спало.
− У меня к вам две просьбы, – повернулась к нему Малка. − Организуйте мне пресс-конференцию. Я хочу, чтобы все это видели, – съемки и мою спину. Никакие они не правозащитники и не борцы за человеческое достоинство. Они не имеют права даже стоять рядом с этими святыми для нас понятиями. Я хочу рассказать всему миру, что они делают с людьми, оказавшимися в их власти. Рассказать и показать. Чтобы все увидели этот звериный оскал. Мне трудно заново переживать это, я стараюсь жить по Торе, и раздеваться перед посторонними людьми не в моих привычках. Но ради доброго имени нашей страны, я это сделаю. Устройте мне пресс-конференцию, мефакед.
Обращение по уставу прозвучало в исполнении Малки так смешно, что мы все невольно заулыбались.
− А вторая просьба?
− Останьтесь с нами пообедать. У евреев радость, праздник. Он сказал мне: даже если придется обменивать тебя живой, я тебе перед обменом лицо изуродую. Будешь сидеть в психушке и бить зеркала, лишь бы в них не отражаться. Но я дома с мужем, с детьми, с евреями. Ни в какой не в психушке. Разделите со мной эту радость.
− Лиор, что у нас с расписанием?
− Брифинг в шестнадцать ноль-ноль.
− Какой идиот назначил брифинг на праздник?