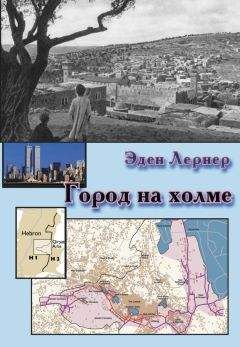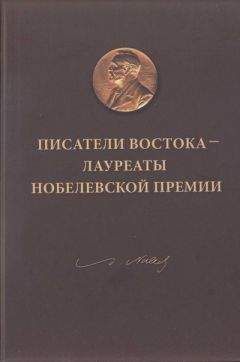− Лиор, что у нас с расписанием?
− Брифинг в шестнадцать ноль-ноль.
− Какой идиот назначил брифинг на праздник?
Повисло неловкое молчание. Всем стало ясно, какой.
− Передвинь брифинг на семнадцать-тридцать. Мы остаемся.
Если бы Малка удосужилась спросить меня, я бы сказал, что ей надо лечь в постель, выпить чего-нибудь успокаивающего и поспать, а не кормить эту голодную ораву. Вообще-то я любил наблюдать за ней в роли маленькой хозяйки большого дома, если уж быть до конца честным – гордился. Ладно, пускай делает, если ей это в кайф. Ради праздника она извлекла на свет божий бабушкино наследство, сервиз, чудом переживший обстрелы и бомбежки Ленинграда и последующий переезд в Израиль. Народ с благодарностью подмел и грибной суп, и плов, и нечто, когда куча разных овощей набивается мясом и все запекается в одной кастрюле. Разговаривала Малка в основном с гостями на нейтральные темы, но каждый раз пробегая мимо меня касалась моего плеча. За кофе с печеными яблоками командующий округом сказал:
− Насчет пресс-конференции. У вас еще есть время подумать. Я не отказываюсь и не отговариваю, но это решение должно быть осознанным. Ваши жизни станут публичным достоянием. Каждое ваше слово, Малка, будет подвергаться сомнению. Наша пресса сочувствует убийцам, а вы от них сочувствия не дождетесь потому, что вы еврейка и живете там, где живете. Они будут писать про вас разные гадости, искажать ваши слова. Они это умеют, поверьте мне. А на тебя, Стамблер, вот такая (он показал какая) пачка компромата. Те левые активисты, которые регулярно таскаются в Хеврон, уже запомнили тебя в лицо и по имени. Прошлой осенью профессор Йонатан Страг записался ко мне на прием, чтобы пожаловаться на тебя.
− Слава Богу, хоть не на родного сына, – вставил я.
− Не волнуйся, − грустно усмехнулся полковник. – На сына он тоже жаловался. Я говорю это к тому, что ты не из тех, кто будет сидеть и слушать, как правдивость и честь твоей жены подвергают сомнению. Для тебя эта пресс-конференция может кончиться тюремным сроком. Подумайте и сообщите мне. Решение должно быть общим на двоих.
Гости ушли. Мы с Малкой стояли в прихожей. Широкая юбка не помешала ей буквально прыгнуть на меня, обхватив руками за шею и ногами пониже. Маленькое тело сотрясалось от беззвучных рыданий.
− Больно, Шрага… Больно… Бо-о-льно!
В любой момент могут явиться Гельфанды с Реувеном, а мы тут стоим. Переместились в салон на диван. Я смотрел в быстро темнеющее небо за окном, успокаивал ее, как младенца, и думал про пресс-конференцию. Для чего ей это надо? Как она сказала – ради доброго имени нашей страны. Страна обойдется, тем более что в глазах мирового общественного мнения мы всегда были и будем виноваты. Малка для страны уже достаточно сделала и делает. А если нет? Если ей, как Натану, надо посмотреть в глаза своему мучителю и сказать перед свидетелями – вот он, Амалек[267], вот то, что он мне сделал. Розмари учила меня: преступление продолжается, пока жертва молчит.
Она уснула, обессилев от плача. Я накрыл ее пледом и принялся убирать со стола. Даже если бы этот “правозащитник” сделал с ее лицом то, чем угрожал, я бы все равно на ней женился, все равно бы любил. А как иначе? Любое другое поведение было бы, как выражается Хиллари, мамаш субстандарти. Прицепить ивритское окончание к английскому корню и пустить это существо в обращение для нее любимое дело.
Эстер Гельфанд привела Реувена с кучей трофеев, выигранных в разные викторины. Руки, рукава, рот, щеки и даже уши у него были в чем-то сладком и липком, похоже, что в начинке для хоменташей[268], а в волосах застряли конфетти.
− А где костюм? – спросил я Эстер.
− Он его Матанелю подарил.
Ну, молодец, что я могу сказать. Мы его учим, учим делиться, и похоже, что усилия начали приносить плоды. Потом проснулась Офира, вернулись из гостей близнецы, и весь вечер у нас не было возможности поговорить спокойно. Только поздно вечером весь коллектив, наконец, утихомирился, а мы остались вдвоем. Господи, до чего же хорошо – вдвоем и тихо, и ее головка у меня на плече. Слава Богу, можно. Во время ниды я, конечно, ни к чему ее не принуждал, но и не отдалялся. Нида она или не нида, я настаивал на том, чтобы она красиво одевалась, пользовалась теми духами, к которым я привык, спала со мной в одной кровати и подавала предметы прямо в руки, а не клала на стол, будто я зачумленный. Справиться с собственным дурным началом, каждый раз маскировавшимся то под критическое мышление, то под любовь к жене, было в разы труднее чем с любым внешним врагом. Мы действительно призваны жить по возвышающим законам. Они не всегда понятны и всегда трудны для выполнения. Я не знаю, как они работают в других семьях и работают ли вообще. Но я точно знаю, что не будь этих законов, я бы усугубил ее травму от изнасилования и развалил бы наш брак.
− Малка, ты можешь мне сказать, зачем тебе пресс-конференция?
Она привстала и изумленно на меня посмотрела.
− Как зачем? А тебе самому не ясно?
− Лучше тебя никто не скажет.
− Потому, что я не хочу быть жертвой.
− Полковнику ты не то сказала.
− Полковнику я сказала на его языке. Мои психика и личностные проблемы его не волнуют и не должны волновать. А вот репутация страны и армии – да, должна.
Маленькая женщина, которая не хочет быть жертвой. Маленькая страна, которая не хочет стать жертвой. Он желчью зальется, когда увидит Малку, – живую, здоровую, красивую. Счастливую – я смею надеяться – жену и мать. Муставэтин. В идеале я должен его убить и не возражал бы сидеть за это в тюрьме сколько положено. Только, зная Малку, могу быть уверен, что она таки будет возражать.
− Шрага, ау, ты где?
− Здесь я, здесь, с тобой.
− Я к тому говорю, что тебе не обязательно туда со мной идти.
Тут пришла моя очередь привстать.
− То есть как не обязательно?
− Полковник прав. Это может закончиться мордобоем и тюремным сроком. И это еще лучший вариант.
Интересно, какой же вариант хуже?
− А худший вариант какой?
− Это если мне будет говорить гадости женщина-журналист или пожилой мужчина. Бить их ты не станешь, будешь сидеть в углу и мучиться, что ты опять меня не защитил. Будет у тебя очередной эпизод с головной болью и кровью из носа. Я буду волноваться о тебе и не смогу сосредоточиться на вопросах, которые мне будут задавать.
− А почему этот вариант хуже мордобоя с тюрьмой?
− А потому, что ты любишь контролировать ситуацию. Ты предпочтешь сидеть в тюрьме, но знать, что ты сделал так, как считал нужным, а все подстроились.
− Ну, в общем, да. А это что, плохо?
− Нет. Но это нелегко. Ни тебе, ни тем, кто тебя любит.
Чтобы я, Боже упаси, не усомнился и не забыл, кто тут меня любит, моей рукой тут же завладели, и я ощутил легкое щекотание ресниц – как бабочка села.
− Ладно, посмотрим. У нас более насущные проблемы. Чем будем гостей завтра кормить? У нас тут бригада Голани побывала.
− Сделаем тако-бар[269], как в Техасе.
Вот ведь знает, как сделать мне приятное. Техас был моим первым и единственным в жизни отпуском, а воспоминания о нем – неизменным способом поднять настроение.
− Шрага, ты все-таки был не прав утром.
− Был не прав, – согласился я, запуская руку в ее волосы. – Можешь еще сказать, что я, эйх омрим бе русит, ка-зи-ол-са-кре-бу-чи, нахон?[270]
Малка выскочила из постели, как будто ее водой облили.
− Кто тебя этому научил? Мейрав или Смадар? Я им головы поотрываю!
− Причем тут Мейрав и Смадар? Я услышал это в русском миньяне. Человек рассказывал про своего шефа.
Как мы смеялись! Все-таки, принимая во внимание обстоятельства, Пурим получился не таким мрачным.
− Ну почему, почему ты учишь по-русски одни ругательства?
− Не правда, – я говорил отрывисто, потому что для того чтобы что-то сказать, требовалось от нее оторваться и сконцентрироваться, а это было нелегко. – Я выучил все мультфильмы, которые Реувен просит.
− Ага. Мультфильмы. Это так мы, значит, за ребенком смотрим.
− У меня не было, пусть у него будет. Не вижу проблемы.
− Тебе они просто самому нравятся.
Конечно, нравятся. И музыка, и графика. А еще мне нравится, что Малка не боится говорить мне правду. Значит, доверяет. В те ночи, когда мы спали по отдельности, меня преследовали тяжелые сны из собственного детства. Мамино лицо, лицо человека, привыкшего к насилию, отупевшего от страха. Каким надо быть извергом, чтобы жена тебя боялась.
* * *
Через два дня военная прокуратура предъявила Валиду Иссаму Кобейри формальное обвинение, а вместе с обвинением исчез повод для продолжения голодовки. Арабские СМИ и их ивритоязычный филиал “а-Арец” объявили, что борьба палестинского правозащитника входит в новую фазу и его не сломит никакая клевета. Военные власти решили сделать процесс открытым и пустить на него журналистов. Это лучше любой пресс-конференции.