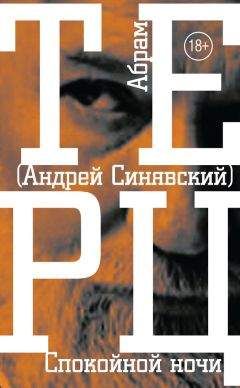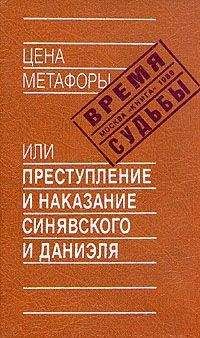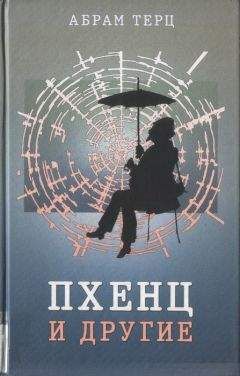Я. В каком смысле – дальше?..
Он. Так будем давать показания? Или – нет? (Барабанит пальцами по письменному столу, но более твердо.) «Топ-топ-топ, – топает малыш!..» Будем давать показания?!.»
И впрямь, в лагере был у нас такой и теперь еще, верно, свирепствует голубой майор Постников, куратор от КГБ. Допрашивая, наказывая, он любил поплакать. Сперва, когда ребята разведали о странной его повадке, у меня мелькнуло: да в уме ли наш Постников – на подобной работенке недолго и свихнуться?! Или – вечный обман, камуфляж, плод особой подготовки в расчете растрогать, сбить с толку? С годами, однако, я научился рассуждать снисходительнее, допуская, что крокодиловы эти слезы бывалого куратора, которые случаются редко, но все ж таки случаются, вызваны той же, что и смех, потребностью души, жаждущей себя уберечь в условиях вредной профессии. Плачущий взывает к нам: «Да поймите же, вглядитесь, в глубине души я добрый, сострадательный, а не какая-то скотина, как вы меня рисуете в антисоветских, между собой, разговорах!..» Это, может быть, способ напомнить и себе самому: я – человек!.. Или соблюсти реноме… Внешность… И только много позже я начал различать в загадочных этих слезах не меру самоохраны, но искренний и неподдельный порыв сердца, оскорбленного в лучших чувствах. Не он жесток, а мы жестоки по отношению к нему, подследственные и осужденные, мучающие попечителя нашими злобными кознями, упрямством, неблагодарностью. Мы, мы – палачи, в его страдающих глазах, и он с чистой совестью, чувствуя свою доброту, обижается за себя и оплакивает нашу неправду…
«Он. Как сейчас помню: детство, отрочество, как сказано у Горького… Вам повезло. Вы, Андрей Донатович, родились и выросли, нам известно, в городской, образованной семье. А я? я? – я вас спрашиваю… Отца не было: убит на фронте. Нас осталось пять человек детей. Я родом, между нами говоря, из-под города Борисоглебска…
Я. О! Борисоглебска?!
Он. Да. И у нас на всех – на пятерых – была одна пара валенок…
Я. Пара валенок?!.
Он. Да. Но мы ходили в школу, и мы учились читать и писать. Тяжелые были годы, говоря между нами, Андрей Донатович. Разруха, коллективизация. Все это дорого стоит, дорого стоит… (Задумывается.)
Я. Конечно же! Разве я не понимаю. И, вы знаете, я не ожидал. У вас университетский значок? Два значка?.. Читали Чехова, Горького…
Он. Да-а… Бедная мать! Бедная наша мама! А ведь и у вас была мать, Андрей Донатович. Что бы вы ни писали в своих, мягко говоря, «сочинениях». Какая-никакая, но мать у вас все-таки была. Вы тоже человек. Была?
Я. Была…
Он. Ну так будете давать показания? Показания – я вас спрашиваю! Или вы навсегда потеряли стыд и совесть?..»
Нет, не мне тягаться в нравственности с поборниками порядка и власти, облаченными в броню морали более твердую, нежели все мои случайные и сомнительные мысли на сей счет. И я, продолжая мысленно защиту, сказал сам себе: ты – писатель! и все остальное не в счет! Пропадай пропадом, но будь собой, Абрам Терц. Не спорь с ними ни об этике, ни о политике, ни, упаси тебя, о философии или социологии, в которых ты все равно ни шиша не понимаешь. Сохранись в зерне, уйди под землю, сгинь, наконец. Но пока еще жив – снимай жатву. И если попран человеческий образ, уйди в писатели, окончательно и бесповоротно в писатели. И – стой на своем…
Стыдно сознаться, но весь этот разговор в душе, между судом и следствием, и весь этот, если угодно, роман, сочиняемый в антрактах, для роздыха, в ожидании приговора, затеян единственно в качестве доказательства, что я – писатель. Я – писатель!.. Рассыпься в прах, воронье! Идите прочь!.. Забавляйтесь, сколько влезет. Растирайте с грязью. Предатель? Враг? Смердяков? Изверг рода человеческого? Иуда? Антисемит? Русофоб?.. Жид?! Жид?! Валяйте сюда и жида…
Под градом ругательств я как-то уменьшаюсь – линяю, линяю. Перестаю себя видеть. Все это вроде бы уже ко мне и не относится: «некрофил», «растлитель»… Страшно. Отсебятина. Отряхиваюсь. Ф-фу, чорт! И ничего не остается. Как объявили (и еще объявят) матереубийцей, и никто слова не замолвит, – о чем еще толковать? Спросят когда-нибудь: кто ты? кем был? как звать?.. Из гроба прошелестю: – пи-пи-пи-пи-писатель… Дайте мне бумажку, я чего-нибудь сочиню!..
«Он. Побойтесь Бога, Андрей Донатович! Ну какой же вы писатель? На что это похоже? Сами посудите. На какой странице ни открою эти ваши, с позволения сказать, «опусы»: уши вянут! Разве это язык? Одна похабщина!..
Я. Может быть, у нас просто разные литературные вкусы?..
Он. Ага. Вы хотите сказать, у меня дурной вкус? Допустим. Но мы же на экспертизу давали. Ученые, писатели… Сергей Антонов, Идашкин. Академик Виноградов. Уважаемые имена. И все в один голос (читает в своих бумагах): «явная антисоветчина, полуприкрытая порнографией и безыдейным формализмом»!
Я. Ну Идашкина я писателем не считаю…
Он (с ехидством). А Чехова? Чехова вы считаете писателем?..
Я. Чехова? При чем тут?.. К Чехову я вообще…
Он. Вот именно – вообще! Вы к Чехову вообще отрицательно настроены. Это что у вас давно началось? Классовая ненависть? Личная зависть? Или, может быть, влияние зарубежных радиостанций?.. Признайтесь, Андрей Донатович! Вам сразу станет легче. Я уверяю вас, вам сразу станет легче.
Я. Да я вашего Чехова… Всегда с почтением – Чехов, «Дядя Ваня»…
Он. Вот видите – «вашего Чехова»! Значит, «наш» Чехов – уже не ваш? «Наши» и «ваши»? Нечего сказать! Ну и змею, извините за резкое выражение, вырастили в Институте Мировой Литературы. (Встает.) Да, Андрей Донатович, да! Вы – правы! Чехов – наш. Чехова – мы любим. Мы нашего Чехова никому не позволим топтать ногами! Народ не допустит, Андрей Донатович! Народ на вас смотрит! Народ!..
Я. Против Чехова я никогда…
Он. И вам не стыдно? А это что? (Роется в бумагах.) Пожалуйста. Ваш пасквиль: «Графоманы». С вашим примечанием: «Из рассказов о моей жизни». Читаем: «Взять бы этого Чехова за его тощую бороденку…» Да как у вас язык повернулся?! И после этого вы смеете заявлять, что вы – писатель?.. Удивляюсь. (Лезет в ящик стола.) Заполним протокол… (В Зеркале над головой Следователя что-то мелькает. С шипением возносятся голубоватые струйки дыма. Слышится возглас: «Носилки! Носилки!» Ни я, ни Следователь не обращаем на это внимания.)
Я. Все не так! Это – нечестно! Подтасовка! Это не я!..
Он. То есть как это не вы?! Тут черным по белому сказано: «я», «из моей жизни».
Я. Но это же прием такой, будто из моей. Художественный прием!
Он (мрачно). Известный прием и очень, очень художественный: террор!
Я. Да у него и фамилия там другая! Не моя! Посмотрите! Это же он про Чехова, а не я, не автор!..
Он (смеется). Ну вы мастер менять фамилии. Уж что-что, а переворачиваться вы умеете. Переворачиваться, изворачиваться…
Я. Но ведь я осуждаю этого человека, моего бедного персонажа, несчастного графомана… Это же всякому ясно! (Вскакиваю.) Во-вторых…
Он. Те-те-те. Не торопитесь. И сядьте на ваше место. Вам некуда спешить. (Смеется.) У вас впереди много свободного времени. «Тише едешь – дальше будешь», сказано в одной пословице. Штудировали Даля? Нет? Напрасно, напрасно. Народные афоризмы украшают русский язык… Не всё сразу. Давайте по пунктам. Ничего не поделаешь – канцелярия. Учет и контроль. «Семь раз отмерь, один – отрежь». Значит так – первое: вы осуждаете свои террористические намерения…
Я. Не свои! Моего героя! И почему террористические?..
Он. Вот-вот: вашего героя. Уточним. Вы раскаиваетесь в призывах к террору, которые вы замаскированным образом вложили в уста вашего героя. Правильно я вас понял? (Записывает.)
Я. Господи, вам говорят, это не мой герой, отрицательный, я не разделяю взгляды, я…
Он. «Я – не я, и лошадь – не моя». Так, что ли?! (Смеется.) Ваш герой – и не ваш герой. А где, поинтересуемся, у вас положительный образ? Где конструктивный, так сказать, бережный взгляд на Чехова? И чьи взгляды вы разделяете?.. Розенберга?!
Я. Какого Розенберга?
Он. Альфред Розенберг, идеолог и сподвижник Адольфа Гитлера.
Я. Вы что – совсем очумели?!.
Он (спокойно). Попрошу без оскорблений. С вами разговаривают как с культурным человеком. Вас культурно просят разъяснить ваши противозаконные действия. А вы – хулиганите. Предупреждаю. Все ваши выпады в адрес должностного лица мы занесем в протокол, а вы под ними поставите свою подпись – вот здесь. «Отольются кошке мышкины слезы», как сказано у Даля.