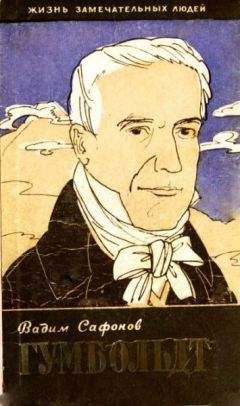– Братик, – сказала я, – не шали! – И пешком пошла вниз.
Мама жила на шестом этаже, как вы помните. То есть в мансарде пятиэтажного дома.
Шла и думала: очевидно, подлый мальчишка, узнав, что мы теперь будем жить в одном доме одной семьей, решил обеспечить себе не слишком хлопотные услады в том же самом доме. В соседней комнате. С названной сестричкой. Фу, гаденыш! Мне стало его совершенно не жалко. Тем более что речь-то шла на самом деле о двух-трех неделях. Самое большое – о месяце. Вы понимаете, что я имею в виду? Если я его не прикончу – его растерзает толпа. Или повесят по суду. Стоит ли так сокрушаться о лишнем месяце жизни для этого приторного красавчика? А ведь он так мне нравился еще совсем недавно. Ну, нравился, потом разонравился. Так бывает.
Когда я подъезжала к дому 15 по улице Гайдна, от крыльца как раз отъезжал пустой извозчик. Я сразу поняла, что это Фишер приехал. Поэтому я зашла в свою квартирку, сделала туалет, вымыла руки и почему-то захотела сесть на кровать с ногами, прямо в ботинках. Но все-таки сняла их, подвернула юбку и легла поверх одеяла. Полежала так минут пять, глядя в потолок и старясь не думать о том, как однажды, четыре года назад, я вернулась в имение из Штефанбурга и нашла в своей постели между матрацем и спинкой длинный-длинный золотой Гретин волос. Потом, подбив подушки поудобнее, села в кровати, протянула руку за сумочкой (она стояла на рядом с кроватью на полу), достала револьвер и стала смотреть, сколько патронов осталось. Четыре. В дверь постучали.
– Не заперто, – крикнула я.
Фишер вошел, раскланялся, поставил на пол свой саквояж, пробормотал что-то вроде «позвольте» и сел в постели у меня в ногах.
– Ну, – сказала я, – торгуйтесь.
– Семь тысяч восемьсот крон, – сказал Фишер. – Если считать по реальной цене золотых империалов. Сколько там было в кошельке, который вы нашли на крылечке? Вот вам и гонорар.
– Шутите? – сказала я.
– Верно, шучу, – согласился Фишер. – Ваша сумма?
– Как это пóшло, дорогой Фишер! – сказала я. – Как пóшло! Прямо даже не знаю, что со мной делается. Вот буквально до этого момента, вот до этой самой минуты… Посмотрите на часы, Фишер, скажите мне, который час.
– Восемь часов ровно, – сказал Фишер.
– Вот до восьми часов вечера пятого июня четырнадцатого года мне казалось, что все это ужасно увлекательно и романтично: разведка и контрразведка, грандиозные заговоры, терроризм, тайные убийства… А на самом деле это что-то вроде похода в банк, а потом в магазин. Выписал чек – взял нужную сумму – отдал продавцу – получил товар. Боже, Фишер, какая тоска! Поедемте на Новую Гвинею. Там папуасы трясут копьями и водят хороводы под луной.
– Непременно, – сказал Фишер. – Но не сегодня.
– Да, да, – кивнула я, – сначала надо сделать дело. Сделал дело – гуляй смело. Так, кажется?
– Так, так, – сказал Фишер. – Ну, я вас слушаю. Ваши условия?
– Какие между друзьями условия? – я изобразила смех.
Я хотела было сказать нечто вроде: «Вы победили, Фишер. Меня тут все победили: сначала мама, потом Грета, потом вы». Но это было бы слишком литературно. Поэтому я сказала просто:
– Я убью этого типа бесплатно.
– Дайте я поцелую вам ножки, – и Фишер взял меня за лодыжку.
– Не дам, – сказала я, наставив на него револьвер. – Они плохо пахнут. Я с утра не вылезала из ботинок.
– Обожаю ваш запах, Далли! – сказал он, раздув ноздри.
– Грязный фетишист или мерзкий притворщик – что хуже?! – закричала я.
Фишер захохотал. Я покрутила револьвер на пальце.
– Кстати, – сказал Фишер, – давайте пройдемся по подробностям.
– Какие еще подробности? – удивилась я. – Мама и этот загадочный итальянец в ближайшие дни обедают у нас. Вот и все подробности. Я справлюсь.
– Далли! – сказал Фишер. – Вы что, посреди обеда подниметесь с пистолетом и будете делать пиф-паф? Или караулить его в сортире? Какая глупость!
– А вы как хотите? – спросила я.
Фишер достал из портфеля красивую плоскую деревянную коробку и вытащил из нее золотой портсигар. Потом спрятал его обратно.
– От вас требуется только одно: чтобы он раскрыл этот портсигар. Желательно в ваше отсутствие. Потому что иначе вас тоже здорово покалечит. Даже если вы будете в трех шагах.
– Бомба? – спросила я.
– Изумляюсь вашей проницательности, Шерлок! – улыбнулся Фишер.
– Отлично, доктор Уотсон! – сказала я, взяла у него из рук футляр, открыла, достала портсигар.
– Осторожно! – вскрикнул Фишер.
– Спокойно, – сказала я. – Я все поняла. Вот эту кнопочку не нажимать и не раскрывать. Верно?
– Верно, – сказал Фишер.
Он ушел.
Я уже совсем было собралась то ли ехать домой, то ли ложиться спать, как вдруг в дверь снова постучали. Я спрятала револьвер под подушку.
– Да, да?
Это оказался Петер.
– Шел мимо – вижу, у вас окошко светится.
И действительно, время уже было половина одиннадцатого. Я не заметила, как прошло время, не помнила, как я зажгла свечу.
Он сел точно так же, как Фишер, на кровати у меня в ногах. А я сидела, поставив ноги на покрывало и обхватив колени руками. Мы долго молчали. Говорить нам было совершенно не о чем. Я рассматривала Петера, а он глядел в сторону. У него был красивый печальный профиль. Интересно, он тоскует по Анне? Он догадывается, что это я ее пристрелила? Но спрашивать об этом, сами понимаете, было неловко.
– О чем вы думаете? – вдруг спросил он.
– О Штефанбурге, – ответила я. – Ваш друг Фишер когда-то очень давно говорил мне, что в Штефанбурге в самых простых мещанских домах на стенах можно встретить драгоценные картины великих мастеров прошедших времен. Чуть ли не эпохи Возрождения. Он обещал рассказать мне, как это вышло, а я все забывала спросить. Может быть, вы знаете?
– Странная и печальная история. Когда-то Штефанбург был богатым венгерским городом. Он назывался немножко по-другому.
– Знаю, Домбальфельд, – сказала я.
– Нет! Это потом. А раньше он был то ли Иштванвар, то ли Иштванхедь, но смысл тот же – замок Стефана. Маленькая копия Будапешта. Да не такая уж и маленькая. Потом с севера пришли германцы, а с юга славяне. Они пришли туда не войной, а как-то просочились постепенно. Одна семья, другая, десятая, Дом, другой, десятый. Одна лавочка, другая. Один цех. Улица, квартал, район. Ну, и так далее. И венгров становилось все меньше и меньше. А в… я забыл точную дату, кажется в третьей четверти восемнадцатого века, произошла страшная история, которую называют «штефанбургский размен». Не слышали? – Я помотала головой. – Неудивительно. Об этом все молчат. Об этом было запрещено говорить. В общем, славяне и германцы, заключив союз, завоевали большинство в городском магистрате и постановили выселить венгров. Девять из десяти, вы понимаете? Децимация своего рода.
– Децимация – это когда казнят каждого десятого, – поправила я.
– Да, да, конечно, – сказал Петер. – То есть еще хуже, чем децимация! Не каждого десятого, а именно что девять из десяти. Это решение было принято рано утром, объявлено в полдень, а исполнено поздним вечером того же дня. Людей выкидывали из домов прямо на улицу и занимали их жилища. Взять с собой разрешалось только самую малость: пару белья, кружку-ложку и десяток крон. Поэтому в квартирах осталось все – мебель и даже картины на стенах. В том числе очень дорогие. Штефанбург был очень богатым городом. Наверное, новые хозяева все же чувствовали, что тут что-то не так. Поэтому в старых домах мебель стояла на старых местах, и картины тоже висели, вот как остались. А если люди переезжали на новую квартиру, они все расставляли и развешивали по-старому. Какое-то странное лицемерие… Захватить чужой дом, но беречь его обстановку.
– Просто жадность, – сказала я. – Практичность. Висят картины, стоит хорошая мебель, и пусть себе. Как говорят в народе, покойники не кусаются. Народ ведь практичен до цинизма.
– Наверное, – кивнул Петер. – Все было очень четко организовано. На улицах стояли подводы. Людей грузили на эти телеги и увозили прочь – вернее, даже не увозили, а разрешали уехать, куда-то туда, – он помахал рукой, – ближе к Будапешту, в родные, так сказать, края… Ужасающая жестокость, правда?
– Правда, – сказала я.
– Особенно ужасно, что люди это воспринимали как нечто совершенно естественное. И захватчики чужих домов, и жертвы. Не было ни торжества победителей, ни сопротивления, ни даже какого-то особенного плача.
– Понятно, – сказала я. – Сегодня ты, а завтра я. Как в русской опере.
– Я вижу, вас это не удивляет, – сказал Петер с некоторой неприязнью.
– От моего удивления ничего не изменится, – возразила я. – И вообще, наверное, здесь какая-то историческая закономерность. Племена сражаются, как животные. Никакой морали, простая борьба за существование. Каждая раса карабкается наверх по чужим головам. Я, например, убеждена, да и моя учительница говорила, что две великие расы – славянская и германская – в будущем веке будут играть главную роль во всем мире. Я горжусь, что во мне смешались эти две крови. Вы же славянин, Петер, и вы должны быть на стороне славян. Вы же серб.