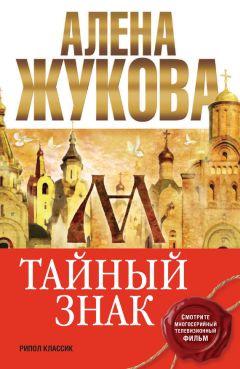– Гражданка Трепцова? Одевайтесь, пройдемте с нами.
Страха уже не было, он куда-то исчез. Настя давно приучила себя не бояться неизвестности, помня слова отца: «Думай о хорошем, и случится хорошее».
Двое сразу подошли к стеллажу с книгами. Она отметила про себя: «Странно как – никаких чувств относительно происходящего, словно все чувства исчезли, замерзли где-то по дороге». Она была как в коконе, и ее совсем не оскорбляло то, что эти двое, не снимая кожаных перчаток, одним пальцем сбрасывают с полок дорогие ее сердцу книги. Потом они открыли комод и стали рыться в нижнем белье. Потом прошли на кухню, перевернули там банки с крупой, крупа посыпалась со стола, шелестя: пшено, греча… Снова вернулись в комнату. Заметно было, что чекисты устали и делают все без особого рвения.
– Глянь, эта? – один из них вынул из шифоньера книгу, наспех спрятанную Настей.
– Похоже. Там палка какая-то должна быть. Палка есть?
– Точно, вот она. Только на книге инвентарного номера нет. Так музейная она или нет?
– Гражданка Трепцова, вы эту книгу украли из музея?
– Не понимаю, о чем вы говорите. Эта книга моя собственная. Сами же сказали, что на ней нет музейного штампа.
– Ладно, собирайтесь, кому надо, разберутся, что там есть, а чего нет.
Настя достала вещмешок Семена, машинально положила белье, зубную щетку, расческу, полотенце, мыло, теплый платок, носки, тетрадь, карандаш…
– Не положено. – Холодный, будто неживой голос. – Тетрадь и карандаш нельзя.
«Надо же постановление об аресте спросить, что же это я?» – пришла вдруг в голову запоздалая мысль, и, словно прочитав ее, один из мужчин вынул и развернул перед ней бумагу с печатью.
В коридоре толкались, не зная куда себя деть, понятые: дворник Степан и соседка Зинка.
Настю вывели во двор, где уже стоял грузовик с закрытым белым кузовом. «Хлеб», – было написано сбоку, и нарисованы румяные батоны, бублики на шнурке, буханки черного хлеба. Она явственно ощутила запах этого хлеба. Подумала: «Семен вернется из командировки, а меня нет. Вот разозлится!»
Ее подсадили в нутро «хлебного» фургона, который был поделен на крохотные металлические отсеки с железными скамейками. Каждый отсек закрывался на дверь. Стало совсем темно. Коленки Насти упирались в дверь, и всякий раз, когда машину подбрасывало на ухабах, она ощущала боль. Все железное, скрипит, лязгает, грохочет… Машина ехала, ехала и ехала. Голоса снаружи доносились слабо. Наконец раздалось:
– Выходите, гражданка Трепцова, руки за спину, проходите вперед.
Распогодилось. Солнце было неяркое зимнее, но глаза слепило после темной утробы фургона. Двор-колодец, маленькие зарешеченные окна вдоль стены, распахнутая широко дверь, глоток свежего, холодного воздуха напоследок, а потом – пара охранников по бокам, тусклая лампочка, темно-зеленые стены коридора с высокими стрельчатыми потолками, запах кирзы, вареной капусты, сырости, казеинового клея и еще чего-то противного, канцелярского.
«Ненавижу капусту, – пронеслась в голове мысль, – ненавижу…»
Рот наполнился слюной, и Настю вырвало. Она оперлась о стену. Голова кружилась.
– Вот же, бля! – выругался один из конвоиров. – Еще не села, а уже гадит!
Он несильно толкнул Настю прикладом в спину, чтобы шла быстрее.
«Села? Странно всё, как странно…» Настя никак не могла уцепиться за реальность.
Ее втолкнули в большую комнату, поделенную надвое барьером. Здесь раздевали, стригли, осматривали, записывали в большую книгу: «Имя, фамилия, следующий». Народу было довольно много, кого-то, видимо, привезли вместе с ней. Настю заставили сесть в одном белье на холодный клеенчатый стул. Кто-то прикоснулся сзади к ее голове:
– Ишь ты, коса какая!
– Стриги, Пирогова, все одно завшивеет, не в камере, так на этапе.
Ржавые ножницы скрипели в руках грубой Пироговой, кромсая косу.
«Что же это я? Ведь забрали. В тюрьму сажают. Что же я не волнуюсь, не говорю, что ошибка? Надо ведь что-то говорить…»
Настя огляделась по сторонам, но все вокруг молчали, и те, кого сажали, и те, кто сажал.
Голове стало неожиданно легко: косы нет. Настя провела рукой по неровным остаткам волос, захотелось глянуть в зеркало. Без косы она себя не представляла. Подошла женщина в белом халате, грязном, застиранном, мятая папироса в зубах:
– Иди ложись, ноги в стороны!
Стыдно, больно, противно – на глазах у всех. Холодная оранжевая клеенка, скользкая от чужого пота, слизи, крови. От папиросного дыма опять затошнило, во рту пересохло. Попить бы… Миска, ложка, кружка – все эти предметы швырнули в маленькое окошко.
– Проходи, следующий.
– Вперед! – приказал казенный голос, и они пошли строем – восемь женщин с узелками и чемоданами.
Зарешеченные лестничные пролеты, длинные коридоры.
– Бутырка, – шепнул кто-то.
– Не разговаривать! Стоять! Лицом к стене!
Охранник уже отпирал дверь и ждал, пока все пройдут внутрь. Тут же загремел засов и повернулся ключ в замке. Камера большая, метров двадцать, нары в три ряда. Очень много женщин.
«Который теперь час и что же это со мной? – никак не могла прийти в себя Настя. – Почему я как во сне?»
Она машинально отвечала на вопросы сокамерниц: нет, не знает ничего, просто утром арестовали, и вот… К ней подошла молодая женщина, назвалась Катей, улыбнулась и стала рассказывать свою историю про анекдот в магазине:
– Услышала, повторила на коммунальной кухне, и теперь вот здесь, и не знаю, кто заложил.
Женщины сторонились ее, считая подсадной.
Настя вдруг ощутила усталость, будто силы куда-то разом утекли. Опустилась на табурет. Отвечать говорунье не хотелось, и она, сославшись на дурноту, просто сидела, закрыв глаза. Ей объяснили: ночью руки под одеяло нельзя, спать при свете, оправка дважды в день. Счастье – раковина в камере. Можно пить, можно постирать белье. Передачи разрешены, если принесут. Ей – некому: Семен в командировке, да и побоится.
Как бы Настя ни относилась к мужу, ей и в голову не могло прийти, что именно Семен, а не кто другой, упек ее в тюрьму и начал копать под Степанова, на которого недавно поступил сигнал: какой-то археолог донес, что Степанов добивается пересмотра правительственного решения по строительству цеха для метровагонов.
Для инсценировки ограбления дачи Семен взял в помощники Петьку Сытина. Оделись похуже, забрались ночью в дом и устроили шмон. Петьку Семен отослал на чердак, а сам прямиком направился в комнату, где стоял комод. Ножом попытался открыть секретное отделение под верхним ящиком. Не сразу удалось взломать, пришлось повозиться, и тут же натолкнулся на фотографии. На одной – барская семья: представительные родители – мать в строгом черном платье, с жемчужным ожерельем на шее, отец в сюртуке, с шелковым цилиндром в руке – и двое детей: девочка годовалая в нарядном платьице на руках у матери и мальчик-подросток в матроске. Надпись гласила: «Семья графа Граве на водах». Позади семьи на фото были нарисованные на холсте горы. Стояло клише, украшенное вензелями: «Дом фотографии Самитского». На другой фотографии мальчик-студент, похожий на Степанова, одно лицо. И подпись: «Николай Граве. Город Николаевъ. Фотография Зелинского».
Так вот какой ты матрос Степанов! Да ты, голубчик, вылитый Граве из Николаева! У Семена просто руки зачесались: сдать его с потрохами! Он быстро убрал фотографии за пазуху. Надо будет выяснить, что там в архиве есть по этим Граве.
Ушли они с Петькой быстро, перевернув весь дом, чтобы было понятно – на даче побывали домушники.
Сделав запрос в архив НКВД, он быстро получил сведения о проживавших в Николаеве до революции дворянах Граве. Семейство было зажиточное, и наверняка многое успели вывезти, но у сынка должно же что-то остаться. «А как хитер – под матроса заделался. Вот контра!» – злорадствовал Семен, переписывая собственноручно данные из большой книги на листок в клетку. Он знал, что сегодня ночью Настю заберут, а завтра утром он доложит начальству по Степанову, и того, как миленького, упекут за ней вслед.
Семен обычно уходил с работы часов в семь, правда, иногда рабочий день старшего лейтенанта Трепцова, помощника секретаря первого спецотдела районного НКВД, заканчивался далеко за полночь. Сегодня после работы его вызвал к себе начальник отдела полковник Савенко. Ровно в восемь, как было назначено, Семен караулил возле заветной двери, чтобы по первому же требованию войти и доложить. Но вызова все не было. На часах минуло девять. Потом половина десятого. В десять он подошел к секретарше и спросил, здесь ли начальник. Тот был на месте. В одиннадцать клевавшего носом Трепцова пригласили наконец на ковер:
– Проходи, садись, племянничек!
Если полковник начинал запанибрата, ничего доброго это не сулило.
– Ты чего там, Сёма, напортачил? Что за кража из музея? Я сегодня у начальника управления краснел и бледнел! Ты бы хоть удосужился факты проверить! Зацепиться не за что! Курам на смех: жена украла из музея НИЧЕГО! Ничего, слышишь, из музея она не украла! Они срочную инвентаризацию книг провели в экстренном порядке: всё по описи и всё на местах, а главный сегодня это дело из папки вытащил и на проверку! – Начальник перешел на зловещий шепот: – В общем, Сёма, завтра рано утром ты идешь в музей и находишь факты. Все об этой книге: когда и кто принес, почему не зарегистрировали сразу. Ценность ее, ну там, век какой, и заключение с подписью директора музея, не меньше. – Он подвинул Семену старую книгу в кожаном переплете. – Ты меня хорошо понял, племянник хренов?!