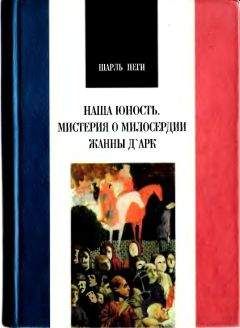Тело самоубийцы Подлугина хоронить не стали, вот еще – негоже это для большевиков, им пристало либо, умерев всем как один, распадаться солидарно прахом в могилах братских, либо, если уж один такой для всех, – на Кремлевской площади под плитой гранитной. Семенов труп отдали в мединститут, и он еще несколько лет болтался, разъятый, в формалиновой ванне, извлекаемый время от времени, чтобы медички не путались потом, где, как и что нужно резать. Когда в Мавзолей излилась дерьмом лопнувшая сточная труба, сказал Патриарх Тихон, что по мощам, мол, и елей. Это не только про Ленина, про Подлугина – тоже.
Запретив Крупской раз и навсегда болтать про причину ленинской хвори, а то мы ему другую вдову найдем, Сталин подумал-подумал, посоветовался кое с кем иносказательно и поверил, поверил, что последний взгляд убиваемого остается в голове убийцы стальными лопастями самолетного пропеллера, секущими в мелкую пыль его мозги. Сталин ценил нужных ему людей и долго жил, и долго правил потому только, что распорядился, чтобы «кадры», которые «решают все», стреляли отрешенным только в затылок.
Возможно ли это? Возможно, так как не исключено.
Если бы для освобождения своих соотечественников мне надо было бы сразить лишь одного человека, разве я немедленно бы не направился, чтобы вонзить в грудь тирана меч отмщения за родину и попранные законы?
Младший лейтенант Наполионе ди Буонапарте
Убить вас – это не преступление, это долг.
Немецкий студент Штапс – императору Наполеону
Мы вовсе не против политического убийства.
Предисловие
Убивать – нехорошо. Это как бы нравственная аксиома иудейско-христианской цивилизации в приложении к частным лицам. Вообще нехорошо, в целом, но если разделить эту проблему на подробности и приступить к рассмотрению ее составляющих, то есть принимать во внимание интересы и мнения отдельных людей, сразу возникает ряд дополнительных вопросов: кого убивать нехорошо? всех ли нехорошо убивать? всегда ли это нехорошо? – и в итоге неизбежное: а что такое «нехорошо», собственно? Конечного ответа ни на один из этих вопросов нет даже в Священном Писании, где императив «не убий» опровергается постоянно и множественно. Уголовный кодекс, например, также содержит ряд допущений в этой области. Исследовать убийственную проблему после Пушкина, Толстого, Достоевского и иже с ними мне как-то неудобно, да я и не собираюсь, увольте-с, так как это – личное дело каждого. Ну вот, хотя бы, весь такой правильный князь Андрей Болконский утверждал, что убить бешеную собаку или совпадающего с таковой по характеристикам человека – это очень даже хорошо, но так никого и не грохнул, тем не менее. А замечательный Пьер Безухов, хотя и утверждал обратное, то Долохова чуть не шлепнул, то Элен порывался мраморной доской приладить по маковке, да и для Наполеона то купленный на толкучке пистолет заначил, то на ножичек рассчитывал. Ergo – тут уж как у кого получится. Я все это к чему – да к тому, что никого в такого сорта делах ни осуждать, ни оправдывать не берусь, кроме, конечно, убивцев вроде Чикатило, – но это не люди, и убивать их следует чем раньше, тем лучше. Солдат убивает врага, особо не размышляя, рискуя быть убитым не менее. Тиран убивает подданных чаще всего не сам, даже Бокасса вырезку и приготовление печени поверженного противника доверял челяди, но это его не оправдывает, как не оправдывают его, лично его – тирана, пресловутые историческая, политическая, социальная и так далее целесообразности. А что оправдывает убийцу тирана? Такие же целесообразности? А разве они едины для всех подданных изничтожаемого тирана? Несмотря на все усилия корифеев духа и мастеров художественного слова, а равно и философических гигантов, ответов на эти вопросы нет, не было и не будет, точнее – есть, но все, увы, разные. Нельзя на них, на эти вопросы, ответить всеобъемлюще. «Нам приказывали – мы убивали» – тоже вариант, в конце концов. «Если нельзя, но очень хочется, то – можно» ничем предыдущего варианта не лучше и не хуже, а уж если очень не то чтобы хочется, а – надо, то какие там заповеди. Особенно коли надо пришить иноверца, инородца, а хоть бы и иновселенца. Надо – и точка.
Убийство тирана чаще всего оправдывается тем обстоятельством, что он первым начал, что называется. Забывается при этом, что и ему было – надо. И он считал, что начал как раз не он. И кто способен в этом разобраться? Да никто. Правым оказывается выживший. А такой вещи, как историческая объективность, не существует и вовсе.
Три самых главных вопроса любого детектива – кто? как? зачем? Есть вопросы и помельче. Но в таком всемирно-исторического значения детективе, как смерть Сталина, есть и еще более важный вопрос – а не помер ли он сам попросту? Может, и сам, но как-то уж все-таки очень, знаете ли, ко времени подгадал, а? Из написанных на эту тему томов можно дома строить или пирамиды складывать. И ответа не знает никто. Не знал, так вернее. Потому что теперь знаю я. Ай да Пушкин, ай да сукин сын! А сейчас узнаете и вы.
Зима 1953 года в Москве была совершенно обычной среднерусской зимой – долгой, холодной и противной. Даже те, кто способен почти натурально, культивируя в себе и в отношении к себе окружающих этакую молодецкую русскость, восторгаться «морозцем, ну, знаешь, небольшим таким, градусов до десяти, небо ясное, воздух – вкусный, снег переливается, похрустывает так под ногой – эх!», даже и те в феврале начинают насморочно гундеть о желательности весеннего потепления, устав, вероятно, наслаждаться непревзойденным отечественным колоритом. Небо серое в темных пятнах, низкое, бесконечный мелкий снег, сосульки, скользко – отвратительно, мерзко, сыро, а то еще и метель занудит в переулках пьяные пляски с подскоками и невнятным тоскливым подвывом, занося забухшие двери воняющих нищетой подъездов и барачных гнилых сеней. Февраль – кривые дороги, так говорят, едешь-едешь, а куда выедешь – куда кривая вывезет. История большевистской России началась в ноябре 17-го года, и, кажется, так и была все эти годы до 53-го зима, зима, зима, от Соловков до Магадана, и настолько она привыкла быть, что привыкли и к ней, не особо уже надеясь на изменение климата. Кто же знал, что пора кончаться зиме; большинство хотело этого, немногие на это рассчитывали, и всего несколько человек сумели это очевидно нужное дело ускорить, и не от мужества сугубого, не-е-т, не из помыслов великих гражданственных, не из-за геройства отчаянного, а со страху, как вернее всего «подвиги» и совершаются. Как это говорилось-то – «нагнал на них страха иудейска», во-во…
«Цезарь, бойся мартовских ид!» – банальность, конечно, а куда денешься, куда? Павлика Первого Неуемного в марте задавили, Александра Второго Влюбленного в марте народовольцы разбомбили-таки, а и сама российская империя в конце февраля повалилась обрушенно. Большевистской империи пришел последний вздох-выдох в тот же сезон. Что было после Сталина – история другая, не большевистская.
При всей своей обыкновенности февраль 53-го имел и существенное от других февралей отличие, – было не просто страшно, как всегда, а страшно очень. И что еще примечательно, боялись не все вовсе (не путать с Вовси), всем как раз бояться было в тот раз нечего, да и чем было уже всех сразу испугать, – боялись те, кого не подмели с 34-го по 38-й, – Сталин всерьез ополчился на Народ Книги. Борьба с безродным космополитизмом все никак не утихала, вывернулось из архивных бумаговместилищ «дело врачей», новодельный Израиль надежд вождя не оправдал, и, говорят, эшелоны для отправки в дальний путь к Биробиджану уже в тупиках стояли, а в самой столице советских евреев готовились отверзнуть дощатые двери, радостно скалясь частоколами нар, свеженькие, с пилы-топорика, бараки, причем доехать должно было не больше половины отправленных. Не исключались, говорят, и интенсивные, как циклонические осадки, погромы в центрально-черноземных областях. Говорят… Впрочем, что гадать – стояли, не стояли, – вполне себе могли стоять, мало ли кого куда не переселял «светлый гений человечества»? Татары, чеченцы, немцы, – чем ашкенази лучше? Вот разве что грамотнее. С учетом поголовной грамотности, а также всеобщей интеллигентности будущей клиентуры дело и готовилось.
Ни о чем таком конкретном в тот пасмурный день конца февраля, стоя у текущего изморосью окна своей квартиры в доме на улице Горького и водя печальными глазами на пролетающих вечно голодных галок, не размышлял Эренбург Илья Григорьевич, литератор, публицист, приятель знаменитостей и борец за мир. Думать ввиду сбегающего от лопаток к копчику страха было сложно, поэтому он просто боялся, – в этот раз могли добраться и до него, нет, не так! не могли не добраться до него: он был одним из витринных стекол торговавшей интернационализмом советской лавочки, а при смене торгового профиля («выпьем за русский народ!») витрину меняют, – с Михоэлсом, Маркишем, Жемчужиной и прочими витринщиками уже разобрались. Мало ли, что «Хулио Хуренито» понравился Ленину, так он тогда уже в маразм впадал, что «Бурю» одобрил Сталин, а он что – не впадает? что с того? Вышлют, точно, вышлют, а то и шлепнут, с них станется, а что потом Пикассо и Жолио-Кюри начнут возмущаться, так им на борьбу за мир доппаек выпишут и велят заткнуться, пока целы. И заткнутся, – он же не Лев Толстой, не Алексей даже, подумаешь – Эренбург! И Ахматова, и Пастернак, и Шостакович – все, все сидят, как снулые мухи между рамами в октябре, не взыкают. Когда надо было ненависть к немцам воспламенять – давай, давай, злее пиши! – до статуса личного врага Гитлера довели, а чуть задумались о завтрашнем устройстве зоны в Германии – «товарищ Эренбург упрощает». Нашли расиста! А сами, сами-то кто?