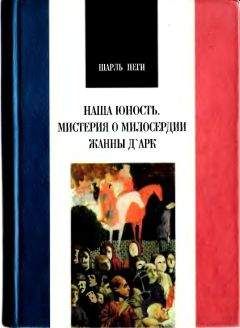Этим утром Эренбург был вызван к Маленкову и принят им.
– Здравствуйте, товарищ Эренбург, как ваше здоровье?
– Спасибо, товарищ Маленков, здоров, готов и в дальнейшем выполнять задания правительства в области борьбы за мир на международной арене. Намечаются, знаете, интересные встречи и форумы видных представителей этого всемирного…
– Спасибо, это интересно, – прервал его Маленков, – но об этом у нас будет возможность поговорить в другой раз. А сейчас… Э-э, вы, конечно, в курсе той непростой обстановки, которая создалась в связи с намерением ряда врачебных деятелей еврейской национальности пагубно влиять на здоровье товарища Сталина, с совершенными ими преступлениями? О готовящихся по этому вопросу решениях знаете?
– Э-э, в отношении обстановки – я, что же, естественно, я в курсе, все советские люди, так сказать… Я лично крайне возмущен, но изумлен, знаете ли, – такие лица, и чтобы… Вся прогрессивная общественность… э-э… негодует. А что касается решений… нет, меня не вводили в курс дела, я не оповещен, извините.
– Прогрессивной общественности мы еще коснемся в нашем разговоре, а в отношении готовящихся решений – я вас и пригласил с этой целью, понимаете, оповещения и вашего предполагаемого участия, – Маленков чуть откинулся в скрипнувшем довольно хорошей еще кожей поместительном кресле и опустил глаза к листам бумаги с машинописным текстом, которые держал в руках с самого начала разговора. Он и руку Эренбургу пожимал правой рыхло-блинно-бледной и пухлой своей ладонью, не выпуская листы из левой руки, которую бросил вдоль по-бабски жирнющего тела.
Эренбург смотрел на одутловатое с хорошо выбритыми брылами лицо Маленкова и, плохо еще понимая смысл произносимых тем фраз, ощущал чутьем не совсем чуждого искусству человека (в конце концов, он многого набрался и от Модильяни, и от Пикассо, и от Арагона и их присных), что копившийся в нем все эти годы ужас, немного усохший с предвоенных лет, хотя и проведенных им в Испании да в Париже, но ведь и Кольцов, и многие другие уехали оттуда на расправу в Москву, что этот ужас, как наполняемая мыльной пеной губка, становится внутри него упругим, скользким, распирающим нутро и мешающим дышать. Эренбург смотрел на Маленкова, и ему представлялось, что похожая на огромную засаленную подушку фигура этого сталинского живоглота наваливается на него, давит и душит насмерть, теперь же и здесь.
– Дело вот в чем, товарищ Эренбург, – Маленков поднял глаза, и Илья Григорьевич увидел там, в глубокой темени непроницаемого вождистского взора холодный, как болотный огонь, светлячок так знакомого ему самому ужаса. – Дело вот в чем… В рамках подготовки решений, о которых я говорил выше, подготовлено письмо на имя товарища Сталина, письмо от имени виднейших представителей науки, культуры, общественных организаций, представителей еврейской национальности, к которой принадлежите и вы, письмо с признанием коллективной ответственности проживающих в СССР евреев за преступные действия, которые совершались против советского руководства, против товарища Сталина. Письмо содержит просьбу об организации коллективной высылки лиц еврейской национальности, во избежание неминуемых эксцессов, в место компактного проживания советских евреев – в Еврейскую автономную область, в район Биробиджана. Ознакомьтесь с фамилиями уже, – Маленков едва заметно нажал голосом, – уже подписавших документ. Предлагается и вам подписать данное письмо. Об остальном мы поговорим позже.
Подрагивающей и странно не повлажневшей рукой (литератор был потлив, но взбухшая в нем губка-ужас вобрала уже почти всю живую влагу нутра) Эренбург принял листки и не стал читать текст, всё и так было ясно, сразу стал дергать взглядом по списку – вверх-вниз, вверх-вниз. В списке были все, – он не пытался, да и не смог бы, наверное, вспомнить кого-то еще из достойных занесения в эту проскрипционную бумагу, не было в списке только его фамилии, его, Эренбурга – сочинителя, приятеля Бухарина, невозвращенца 30-х годов, наводчика на троцкистов в Испании, фронтового корреспондента, звавшего убивать любого немца без различия пола и возраста, бесстыдного борца за мир по-советски – его фамилии. Он не успел подумать, почему так, и заговорил совершенно спокойно, с достоинством даже, – терять было уже нечего, он пропал и так, и эдак, и подписав бумагу, и не подписав ее, он был обречен пропасть.
– Видите ли, товарищ Маленков, я думаю, что в рамках готовящихся, – Эренбург паузой выделил это слово, – готовящихся решений подписывать эту бумагу мне было бы нецелесообразно.
Он и не думал бороться с той силой, бороться против которой было так же бессмысленно, как пытаться оживить убитых в Бабьем Яре, он просто пытался отделить себя от них , от всех .
– Это почему же? – без интереса в голосе, не поднимая глаз от темно-зеленого сукна стола, спросил Маленков.
«Сейчас он нажмет кнопку и за мной придут. Или в коридоре возьмут?» – подумал Эренбург и, глядя в упор на макушку склоненной головы Маленкова, стал отвечать почему.
– Мои зарубежные коллеги по движению борьбы за мир в доверительных беседах со мной позволяли себе проводить аналогии между известными процессами конца 30-х годов и, как его называют, «делом врачей». Более того, мне было заявлено, что наиболее авторитетные наши сторонники, многие из которых тоже евреи, не примут на веру возможных итогов судебного разбирательства без открытого представления самых обоснованных доказательств вредительской деятельности арестованных. В противном случае эти известные люди намерены открыто протестовать и лишить нас своей поддержки, а это немаловажный фактор. Я считаю необходимым довести эти сведения до товарища Сталина.
Чего угодно мог ожидать Эренбург – что Маленков застрелит его прямо в кабинете, хотя этого за ним, по слухам, прежде, правда, не водилось, что предложит ему перейти на нелегальное положение, что достанет из высокого коричневого шкафа с белыми занавесочками на стеклах дверок початую бутылку «Греми» и нальет по половинке в тонкие чайные стаканы… Не мог он ожидать только того, что произошло на самом деле. Так и не подняв головы, Маленков заговорил вдруг обыкновенным голосом, лишенным цекистской привычной тональности и вождистского безличия, – так говорят обычные люди, советуясь насчет того, говорить ли свояку из деревни, что он загостился, или можно потерпеть еще.
– Не знаю, не знаю… Думаю, это бесполезно…Что это может изменить? Бессмысленно, по-моему. Кроме того, как же довести вашу точку зрения до товарища Сталина, – вряд ли он согласится вас выслушать. Непростой вопрос.
– Я напишу ему письмо, – сказал несколько ошалевший от получения отсрочки борец за мир, – изложу в нем…
– Изложите, Эренбург, если желаете – изложите. Еще раз повторяю, считаю это ваше решение вряд ли оправданным. Но – это ваше право. До свидания.
Беспредельно чуткое в этот момент сознание Ильи Григорьевича уловило, конечно, в последней фразе Маленкова отсутствие ритуального товарищ , но размышлять и сопоставлять он уже не мог. Идти до дома ему было всего ничего, и за пятнадцать минут ходьбы по мерзейшей снежной слякоти при резком ветре в лицо он осознал, что готов согласиться на вечный февраль в Москве против парижского июня при условии сохранения лично ему возможности этим февралем наслаждаться. Письмо литератор начал сочинять еще по дороге домой, вот только кроме начальной строки «Уважаемый Иосиф Виссарионович!» и простой подписи «И. Эренбург» ничего в замутненную, как мутит спокойную под речным бережком прозрачную воду стекающая в нее из глубоко проваленного следа глина, голову не приходило. Надобно было отдышаться, чтобы осела муть в испуганной вторжением воде, чтобы остудила голову ледяная, пахнущая железом и хлором жидкость из водопровода, чтобы ватный тампон впитал несколько капель отбегавшей свое крови из носу, – тогда он напишет письмо.
Через сорок минут после разговора с Эренбургом Маленков набрал вертушечный номер Берии. Еще через тридцать минут министру госбезопасности Игнатьеву принесли распечатку их разговора.
Маленков: Лаврентий Павлович?
Берия: Да, слушаю.
Маленков: Был.
Берия: И что?
Маленков: Будет.
Берия: Ладно, все.
Игнатьев читал первую и единственную копию таких распечаток, – оригиналы шли самому Сталину, поэтому министр, не получивший пока ежедневной сводки о встречах и беседах высшего руководства, гадать о смысле разговора и готовить бумагу для доклада вождю не стал, – о чем докладывать-то? Кто был, что будет – потом разберемся, со всеми разберемся, надо полагать.
Лаврентий Павлович Берия в тот самый день февраля, когда Эренбург боялся у окошка, своими ощущениями поделиться с Ильей Григорьевичем не смог бы, – уж больно они, ощущения, были схожими. Берия боялся – точно так же. Уж кто-кто, а он твердо знал, что пришел и его черед, – так бычок или хрячок, который водит собратьев и сосестер по территории бойни к месту, где их – того-с, однажды ощущает, что сегодня и его – чик-так-сказать-чирик по причинам, от него не зависящим, теряет бодрость, выглядит квелым, а те-кто-решает и впрямь осознают – пора и старому приятелю копыта отбросить, загулялся, – «пора, мой друг, пора». Et cetera. Кроме общего для всех людей его уровня «пора», «пора» как «видному деятелю Коммунистической партии и Советского государства», Берии было пора именно в этот заход и потому, что его мать была еврейкой, так что совокупное восприятие его фигуры вождем народов назвать радужным или хотя бы радушным никак не выходило (Сталин так произносил – «радушжная встрэча»), – Лаврентий Павлович представлял себе свое положение в виде блекнущего негатива на кинопленке, которую вот-вот смоют для вечных скорбных нужд отечественной фото– и кинопромышленности.