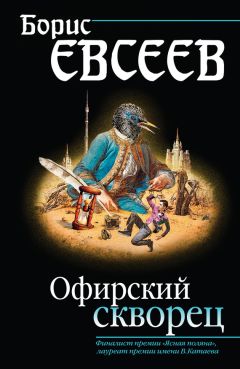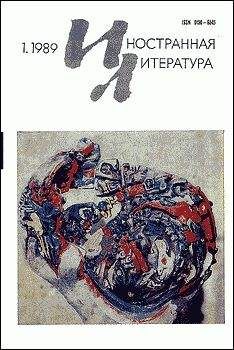– Я и сам одно время так думал. Но по дороге из Франции мнение свое изменил. И царь между царями, и император – подданные Великого Простора! Вся суть в громадных пространствах. Простор – есть воля! Воля – есть простор! Вольность России – в просторе великом. И свобода там же. Простор уничтожает любую несвободу… А еще новая вольность имперская в том, чтобы, свободно перемещаясь в пределах великого пространства, забывать про время. Помнишь про время – и ты раб, ты не ощущаешь пространства. Ощущаешь пространство – и время тебе ни к чему! Да они и сами по себе скоро не нужны будут – времена. Есть пространство – оно перемелет время, сделает хронологию маловажной! Вот я время забыл и чувствую: я теперь не Роланд Инфортьюне, не Роланд Несчастливый, каким когда-то назвался, – чувствую себя уединенным и вечным мечтателем Сибири!
– Ишь, куда тебя занесло. Песни о пространстве поешь, а где в этом пространстве Офир спрятан – тут молчок.
– Тебе скажи – так ты не поверишь.
– Говори, шпек, говори, засланец, где царство Офир? Сомну в комок!
– Тут, недалече. По границе расположено…
– Это где же? В Крыму? Может, в Святых Горах?
– Может, и близ Святых Гор Офир когда-нибудь вспыхнет. Может, от Слобожанщины до самого Азова протянется. Но я хотел другое сказать: по границе разума царство Офир расположено! Однако, – спохватился Тревога, – кто прежде срока много узнает, раньше помрет, чем состарится. Ты сахарную голову крупную купи и болвана сахарного успей выточить, пока Дзета тебя не упекла куда подальше!
Ванька Тревога истаял.
Вместе с ним исчез и тревогинский автопортрет. Но пластилиновый человек тот остался. Еще остался сладко-пекучий вкус колотого сахара во рту…
Сахарный Тревога сильно менял дело!
Вдруг увиделось: стоит Ванька в музее Московского Кремля, на подставочке – сахарная голова отсвечивает, губы томно сверкают. И подходит к нему воробьиным шагом – до смешного мелким, предательским – средневысокий чин в синеньком блейзере и как бы про себя гундосит:
– Голову – вижу. Большая голова, мозговитая. Ясен пень, из сахара ведь! Таким образом, и мозг услажден, и душа, как говорят, искрится. А вот ручки и ножки… Что ж это вы, господин Человеев, ручки такие крохотные вырезали? Сахару, что ль, пожалели? И ножки – совсем не в дугу. Вы законы искусства вообще-то осознаете? А табличка? Что за табличка под болваном сахарным, я вас спрашиваю? «Искал правду, нашел Тобольск». Ну, написали хотя б: «Искал иное царство, попал в Тобольское наместничество!»
Глянул Володя и ахнул.
Стоит Ванька Тревога на возвышенном и почетном месте. Только ножки у него и впрямь малокрошечные. А ручки – одни кисти: ни локтя, ни предплечья. И в голове что-то мягко бурлит, будто сироп варится.
– Искаженным у вас образ Тревогина вышел. И учение тревогинское про Офир зря вы здесь пропагандируете. Не творческое воображение – чинопочитание и сословность все вокруг выправят. Так вы или немедля преобразите болвана сахарного, или тащите его отсюда вон!
Тут Володя сахарного Тревогу подхватил, кинулся вниз, в точильные мастерские. Но по дороге уронил Ваньку! Сахарная голова откололась, запрыгала, грохоча, по музейным ступеням вниз, вниз…
И сразу – смех. Смеялся Тревогин: не сахарный, тонкотелесный!
– Теперь понял? Я ведь с умыслом тебя заставил кумира из сахара вырезать. Знал: кумир сахарный расколется – ты прозреешь. И соображать начнешь, в чем причина нынешнего интереса к летателю Тревогину!..
Человеев встряхнулся, вскочил со стула, кинулся на Дзетин балкон.
Прикидывая возможности, глянул с четвертого вниз. Спуститься, не переломав ног, в общем, было можно. Вернувшись в комнаты, проверил ключи, кредитку и, обув свои знаменитые сиреневые штиблеты, теперь уже медленно и осторожно ступил на балкон.
Говорящие птицы, мычащие люди
Вавила Ханадей ехал в Дом Правительства жаловаться на жизнь. Порицать чужие пороки и выхвалять собственные достоинства, напоминать о разнице между людьми и птицами, а главное – о болезненном состоянии нетрудовой части российского населения говорить он ехал!
В Доме Правительства, в финансово-экономическом секторе, или, как втихаря его звал Вавила, в Исправдоме – с ним поговорили любезно, но и по всей строгости закона.
– Как же ты это так мог, Вавилон Ильич?
– А что я? Я ничего…
– Так ведь ты у себя, сообщают, скворца говорящего прячешь. Птицу дорогую, птицу финансово подотчетную. И птица эта, нам докладывают, всякие дерзости произносит! К примеру, про Офирское царство. Словом, околесицу турусит… Тупому ясно: говорит птица именно то, чего не смеют публично высказать люди, которые ей потихоньку все это внушают. Теперь понимаешь, как ты не прав, Вавилон?
– Понимаю. Осознаю. Только нет у меня больше скворца. Нету-у!
– Куда ж это он подевался?
– В карты его продул.
– Так-так-так.
– Простите! Не повторится! Помогите найти, сам дико мучаюсь! – Пузенистый Ханадей промокнул рыжеватые залысины всеми десятью пальцами, потом стряхнул оставшиеся капли пота на пол. Однако пот на ханадеевских пальцах все равно остался, и Вавила по-тихому обтер пальцы о полосатый пиджак. – Только один вопрос птице задам и сразу возвращу на пользу государству! Дворец для священной майны в зоопарке выстрою!
– Зачем же в зоопарке дворцы строить? Там и без того с метрами туго. Дворцы для птиц в других местах строить нужно. И чтоб в тех дворцах, в щебете и звоне, совместно с птицами серьезные финансовые личности могли отдыхать! Особенно те, кто потерпел по службе. А то ведь даже голову таким потерпевшим негде преклонить бывает. Ты об этом, Вавилон, подумал? Ну а в новом дворце и сады висячие могут появиться, и священному скворцу – ореол славы. Пускай себе про Офир в наших садах поет!
– Пока сады отрастут – век наш кончится, – вырвалось у Ханадея.
– А не тоскуй ты так безмерно, Вавилон.
– Что это вы все – Вавилон да Вавилон… Вавила я!
– Что Вавилон, что Вавила – одна пустая сила. А насчет нового сада вот что: мы деревья из Аптекарского огорода повыдергаем – и в новую почву! Там, в Аптекарском, их многовато на пятачке. А у нас будет еще одно крутое Сколково, только ботаническое… Так что не унывай!
– Я и не унываю, только мучаюсь страшно.
– Мучиться не стоит. И ерундить – тоже. А то мы можем подумать: не смыслит Вавила в строительстве дворцов ни уха, ни рыла.
– Да вы лучше послушайте, что скворец говорит! Может, и во дворцы свои брать его не захотите. Я запись принес.
– А не нужна нам твоя запись, мы и так все знаем.
– Знаете, да не все! Хоть на минуту, да включу!
И залился велосипедной трелью, а потом заговорил священный скворец: «Правит-тель медлит. Конец концов – близок! Имперских вольностей – всем! Каждый – цар-рь! Финансовых кровососов – на мус-сорку! Ип-потека! Расселина! Р-реституция! Петушар-ры, все петушар-ры!»
– Ты что за пленку приволок, дурак! Это же полный нафталин, лихие 90-е! Сам пропах и кабинет нам провонял! У нас теперь все другое, без всякой упырятины. А ну, вали отсэда со своими трелями!
* * *
Говорящие птицы были страстью ученого Торубарова. Поэтому как только он узнал про интерес к скворцу чучельника Голева, сразу же согласился помочь. План ученого был прост и по-своему живописен: выписать с острова Борнео подходящую самочку и приманить ею скрывающегося в дебрях Москвы священного скворца.
– Понимаете? Говорящие птицы они…
Здесь Торубаров стал, волнуясь и часто дыша, рассказывать про говорящих птиц. Про то, какие они покладистые, и про то, откуда у них в зобу разговор берется. Про птиц подражающих и птиц, говорящих самостоятельно, безо всякого подражания. А еще про таинственность возникновения в птичьей гортани человечьего звука.
– Тайна это тысячелетняя, тайна необъяснимая, – никак не мог успокоиться Никита Фомич.
Разузнав у Торубарова подробности, объявили сбор говорящих птиц.
Говорящих в России оказалось на тот день и час не так уж много.
Дальних тревожить не стали, решили заняться ими позже и лишь в случае резкой необходимости. А вот московских говорящих – тех скоренько собрали, стали внимательно прослушивать.
Птицы рассуждали о разном. Одним – вслед за их разборчивыми хозяевами – нравились иены и юани.
Другие сетовали на шкурников и подхалимов, плотно окруживших (некоторые птицы высвистывали еще не слишком четко: «нассего», «нассего») нынешнего правителя. Большую часть пернатых болтунов сразу отправили восвояси. А говоря откровенно, просто стали хватать охапками и выкидывать вместе с хозяевами всех этих переимчивых кенаров, чижиков-пыжиков и долдонистых попугаев!
А вот скворцов – тех оставили. Скворцы говорили о наболевшем.
– Мал-ло кор-рму.
– Сбербанк – жиреет!
– Нич-чего не ясно!
– Мир тр-реснул…
Ученые, с интересом птиц разглядывавшие, были значительно прозорливей и в своих мыслях последовательней: