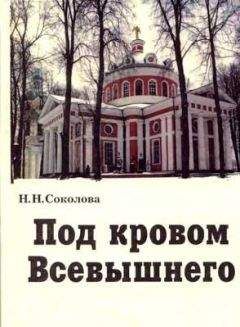Вера всегда смеялась вместе с ней, «за компанию», поэтому, пока на Капу никто не «клюнул» по-настоящему, поклонники не переводились и шли чередой.
Телефон Веры разрывался на коммунальной стене: «Ну прям как в учЕреждению звОнют беспрерывно, нахалы!» – ворчала Верина мать Пелагея.
А у Капы раздавались только «вторичные» звонки, типа: «Нет ли, сов. случайно, Верочки у Вас в гостях?»
«Есть, приходите!» – любезно отвечала Капитолина Романовна, и когда поклонник вот-вот должен был появиться в дверях Капиной квартиры, она сообщала Вере, что вдруг ужасно разболелась голова и чтобы Вера шла пока домой, созвонимся потом.
Что та и делала, нисколько не обижаясь на Капу и даже не подозревая, почему это у подруги так часто и вдруг начинаются приступы мигрени.
Но, как ни печально это было, Верины «ухажеры» не долго сидели у Капы в гостях, узнав, что Верочка «только что ушла из-за внезапной головной боли, которой Вера подвержена с детства в результате дурной наследственности».
Вот так буквально, со здоровой головы да на здоровую голову, переходила постоянная «головная боль» в Капиных матримониальных отношениях.
* * *
А вскоре в Капиной в семье случилась сначала – беда, а за ней – и вовсе горе.
Отец Капы, Роман Свириченко, «вертухай», попался вдруг на старости лет «на взятках от родственников заключенных».
Взятки состояли из папирос и спиртного. Но так как даже и на место вертухая была огромная очередь из желающих, отца выгнали с работы и пригрозили вроде бы «завести дело».
Но свет не без добрых людей. Помог звонком один генерал из бывших его выучеников, у которого старик когда-то числился в начальниках караульной службы. Поэтому «дела» не только не получилось, но ему даже не дали огласки, а по-тихому предложили Капкиному отцу через домоуправление поработать истопником. Причем, в том же доме, где он жил.
Роман сразу согласился, но продолжал пить вчерную, уже и на рабочем месте, в подвале, в просторной «тыртовской» котельной.
Там он однажды ночью и умер, угорев прямо у котлов «по пьяному делу».
Пелагея слышала от татарки-лифтерши Кати, что, когда санитары вошли забирать труп, то в темноте подвала хорошо было видать, как изо рта покойника выходило и ровно горело пламя, так называемый неугасимый огонь. Свят-свят-свят!
Романа свезли на кладбище, а его квартиру на чердаке проветрили окончательно, матрас и тряпье, от него оставшееся, сожгли в той же котельной. Сапоги и ремень сменяли на блошином рынке на сало. Стул из коридора отнесли лифтерше в каптерку.
И не осталось от человека ничего.
Как и не было его вовсе.
«Даже и поминок не устроили, как басурманы какие-то!» – ворчала Веркина мать Пелагея.
Но матери Капы было не до поминок.
Случилось горе «похлеще» смерти старого мужа-пьяницы.
Старшая дочь, самостоятельная, умная и рассудительная, надежная опора в материнской горькой жизни – Тамарочка – «без ножа зарезала!» и «в гроб живьем загнала!» свою бедную мать.
Еще работая медсестрой в госпитале, Капина сестра Тамара, вдова военнослужащего, «павшего смертью храбрых», тайно сошлась с одним выздоравливающим офицером и забеременела.
До этого, за всю свою краткую довоенную супружескую жизнь, Тамара ни разу беременна не была.
Узнав, что это произошло, Тамара и испугалась, и обрадовалась. Самой первой об этом ее состоянии догадалась мать. И сказала неожиданно решительно: «Дочка, рожай, глупостей не делай! Поднимем ребенка сами как-нибудь, авось проживем!»
Тамара родила и пришла с ребенком домой к матери, отцу и Капе.
Крохотную, хорошенькую, как фарфоровый ангелочек, девочку назвали Викторией – в честь Победы! Вику все очень полюбили, а Вера и Верин брат Коля стали ее крестными родителями. Старики так и вовсе души в младенце не чаяли.
Записали новорожденную на фамилию деда, а вот отчество дали «Георгиевна».
Георгием звали Тамариного офицера.
Но – «победоносец» этот был женат, и, намекнув, что не за ним одним «молодая, красивая и вдовая!», а, значит, как он надеялся, неглупая по-житейски, Тамара ухаживала, – предполагаемого своего «нагулянного» ребенка даже увидеть не захотел.
А когда выписался из госпиталя, поехал жить к своей «законной» жене и детям.
Тамара же после этого поступила странно.
К Виктории заметно охладела.
Записалась вдруг на срочные курсы связистов и, оставив маленькую дочь на родителей, тоже попросилась, через знакомых, и с трудом, но устроилась все-таки на работу в ту именно военную часть, где находился Георгий с семьей.
Там Тамара стала служить, живя в казарме, где, через некоторое время, Георгий ее и нашел. Они вдруг начали все снова, и Тамара опять от него забеременела.
Тогда Георгий сказал ей, что у него уже достаточно детей, и чтобы она на сей раз «делала, что все делают». И добавил, что он ее «после такой подлости с ее стороны больше не знает и знать не хочет!».
Тамара понимала, что аборт – дело подсудное и запрещенное, к тому же, очень опасное, но стала судорожно искать хоть кого-то, кто бы смог помочь, и, не найдя, просто сошла с ума.
И, вынужденная в казарменных условиях скрывать свою беременность, тупо жила дальше.
Когда наступил ее срок, ушла в ближайший лес и родила в этом лесу, корчась от боли и страха, в вечерних сумерках, свою вторую девочку, даже не зная, кто у нее родился, и не желая ничего рассматривать.
Она задушила плод коленями, закопала в кустах и вернулась поздно вечером в часть.
Ночью, в казарме, у нее открылась родильная горячка, «от молока».
В бреду она то ли все рассказала, то ли и так все всё поняли, пошли в лес с собакой, откопали трупик новорожденного ребенка и отдали Тамару под военный трибунал, как военнослужащую.
Сначала ее хотели расстрелять, но в итоге, из-за ее состояния полнейшей невменяемости, дали 10 лет лагерей.
Георгий каким-то образом выпутался. Он все отрицал, и даже жена приезжала его «отстаивать».
Тамаре было уже все равно. Она умерла в лагере вскоре после приговора.
От нее осталась одна только большая фотография. На ней Тамара, с распущенными длинными волнистыми волосами, снятая в полупрофиль, сияла улыбкой безбровой Джоконды над кроватью, где спала маленькая Виктория.
Вику воспитывали бабка и тетка, юная Капитолина Романовна.
Капа просила маленькую племянницу называть ее только по имени, без «тетя», а та звала ее часто «мама».
Капа этого не любила.
Она и портрет сестры на стену повесила, чтобы говорить ребенку, показывая на Тамару: «Вот твоя мама! Она заболела и умерла.» Так что Виктория не знала ничего о судьбе своей матери.
А Капа ничего никому не рассказывала, потому что не просто хотела, а уже мечтала «удачно» выйти замуж.
Радость Пелагеи от жизни без войны потихоньку затухала, своим чередом шла все та же работа, часто сверхурочная, и легче как-то вот не становилось. Голодно было; для того, чтобы «отовариться» по карточкам, приходилось стоять в долгих ранних очередях. Домой Пелагея приходила поздно, детей по вечерам не было никогда – где-то шлялись до темноты, ночевать заявлялись одна – в час ночи, другой и вовсе под утро.
Пелагея спасалась от одиночества на кухне, при соседях. Выходили ставить чайники последний раз около десяти вечера, вода иной раз аж выкипала, до потрескивания окалины, а завязавшаяся беседа – нет. И на душе заметно веселело от простых этих разговоров.
От Степана пособие последнее на восемнадцатилетнего уже Кольку пришло в декабре – а весной парня должны были забрать в армию.
Николай сильно вытянулся, но не стал, слава Богу, дылдой, как другие, которые аж горбились от худобы и высокого роста.
Острые и очень широкие его ровные плечи так и играли мускулами, и весь он был ладный да складный, ловкий, длинноногий. Лицо узкое, худое, глаза огромные синие, что твои васильки, брови вразлет, а вот волосы цветом каштановые, как у Пелагеи, но мягкие и редкие, как у отца.
Чуб Николай зачесывал назад и гладко, и это придавало ему невыразимый налет благородства.
Улыбка на лице всегда, добрая и веселая – сразу видать, простак! И все поет, даже в ванной, заливается соловьем, и в кого только уродился с голосом?
Вот девки на нем так и висли гроздьями! И кому-то только достанется? Да ладно бы – девки, а то ведь и бабы, – и немолодые, притом, лет под тридцать, – с ума сходили, проходу не давали. Полину, мать родную, во дворе останавливали с вопросами и просьбами срамными – вот дуры-то!
Но Колька, к слову сказать, молодец был – уж не чета папаше своему, вовсе не бабник, хоть и красавец писаный. Все ездил с приятелем своим Витькой в Сокольники, в ансамбль песни и пляски его приняли в военный какой-то, голос у него прорезался, ну как прям у Лемешева, преподаватель даже приезжал, сказал, пусть Пелагея похлопочет в военкомате, чтобы Николая Степановича в армию через ансамбль этот взяли.
Вот просит Коля ему аккордеон купить, хоть подержанный – играть он уж где-то научился, теперь инструмента не хватает. А деньги где? У отца никто просить не будет, ни он, ни Верка. Гордые больно. Ну да и ладно. Пелагея теперь белье стирать еще и у соседей из верхней, восьмой квартиры, подрядилась.