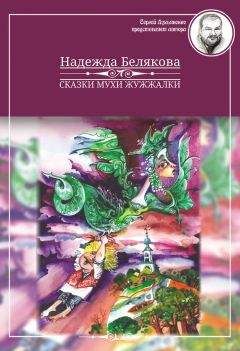– Так – приехал… и с вокзала – стройка – ремонт – рынок. Понятно… А талант – что с ним делать? Талант… Что? На хлеб талант не намажешь! А он же парень! От таланта же не откусишь… Хоть в ту тюбетейку залезай с ногами от этой жизни. Ни анальгин, ни солпадеин не помогает, третий день голова болит! – передернула плечами раздраженная Машка.
Но уборщица Клава не унималась:
– Вот зря смеёшься над тюбетейками Маргариты! Зря плохие слова говоришь. Ну, все наши знают, что они чудесные! Ну, что ты упрямишься?! Надень… и все хороню станет! Всё лучше, чем химию эту глотать, от таблеток один вред!
Но Машка раздраженно одернула её:
– Э… молчи! От глупостей хороню не станет – только голова сильней болит! Сказок ты наслушалась! Тюбетейка на голову – и все пройдет?! Так и ведро присоветуют, так что ж – в ведре на башке ходить?
Юрка замер на пороге, слушая уборщицу Клаву. Она, почуяв внимательного слушателя, словно доказывая, что последнее слово не за Машей, переключила своё красноречие на Юрку:
– Всем хороню становится, когда тюбетейки с её вышивкой надевают!
– Почем? – спросил Юрка.
– Так как обычно, дядь Юр! Не подорожало. Ты что, забыл, почем родимая?
Из-за прилавка Машка назвала ему выученную цену его обычной водки. Но он отмахнулся и переспросил у уборщицы еще раз стоимость тюбетейки.
– Так за триста отдает!
Машка привычным жестом поставила на прилавок бутылку. Но Юрка, как не поздоровавшись, так и не попрощавшись, повернулся и молча ушел.
Само течение жизни обрело для Юрки весомость и материальную ценность каждого прожитого дня. Приближал его к тому мигу, когда он войдет в ателье «Маргарита». И прекрасная Маргарита вспорхнет со стула, обронив на пол соскользнувшую с её тонких, каких-то пугливо-детских плеч ажурно вязанную шаль. И поднесет ему одну из своих расшитых шелками, разноцветными узорами-завитушками тюбетейку. И протянет он ей свои «без сдачи» по цене двух бутылок без закуси… Мечтая об этом, он так и чувствовал, что каменеет его язык, что и повернуться-то от волнения он не сможет, чтоб тюбетейку спросить, чтоб «отспасибкаться» на прощанье.
Пока он ждал дня, когда настанет день выплаты пенсии, он вдруг заметил, что скоро наступит зима. Что рассветы красивы размашисто расстеленным по небу красным пылающим плащом. Что подкрадывавшиеся сумерки подкрадывавшиеся заволакивают комнату синевой, что молчание ночи полно скрипов и вдохов, словно не одинок он в комнате, что ветви деревьев без листвы похожи на руки молящихся, и многое, многое стал видеть он, словно глаза его открылись в жизнь, как у новорожденного кутенка в положенный срок. Старый Юрка ждал и мечтал, как отправится в ателье Маргариты в «пенсюшкин» день. Но сначала купит белую рубашку. И, быть может, даже галстук. И пойдет покупать у Маргариты её узорчатую тюбетейку.
В то раннее утро, когда улица была еще пуста, Марат увлеченно лепил. Пока вдруг не заметил бесцеремонно поставленную мужскую ногу в роскошном и вычурном лакированном двухцветном желто-черном ботинке в стиле парафраза «Чикаго» 30-х годов на облупленный бортик песочницы. Шнурки левого ботинка болтались по бокам желто-черного лакированного гламура.
Мальчик настороженно рассматривал странный ботинок, явно ощущая его враждебность. И тут на лице мальчика проявился внезапный испуг, потом его сменила волна удивления на лице Марата. Незнакомец тоже внимательно рассматривал вылепленные мальчиком фигурки, стоящие за его спиной. И тотчас в них стремительно, как в мишень, вонзились тонкие, с разноцветными рукоятками ножи.
Человек в лакированных ботинках, криминально-богемного облика, в шляпе с дорогим шелковым шарфом, небрежно завязанным, как шейный платок, метал ножи прицельно, как град. Марат привстал, опираясь рукой о край бортика песочницы.
И ножи впились в дерево песочницы метко между его пальчиками, не задев, не оставив ни одной ранки.
Ужас сменился восторгом на лице Марата. И Марат, как завороженный, прошептал:
– Дай мне… я попробую!
В ответ незнакомец рассмеялся. Неожиданный поворот его развеселил. Смеясь, он обернулся и подмигнул кому-то, сидящему в «Бугатти». В машине дремала компания, явно славно круто повеселившаяся ночью. Человек за рулем, явно босс, затягивает косячок, неодобрительно покачивая головой по поводу затей своего приятеля. Он всегда не одобрял этих игр, как нечто «не по делу», но относится снисходительно. Две очень яркие девицы, но потрепанные ночной жизнью, спали на заднем сиденье.
– Стилет! Не пугай мальца! – крикнул Босс из-за опущенного бокового окна.
Но Стилет не отреагировал, а обратился к Марату:
– Ну, давай, покажи класс!
А Марат успел проворно схватить все ножи, выдернув их из песочных дворцов. И молниеносно пригвоздил оба шнурка Стилета ловкими прицельными движениями. Одним прыжком выскочил из песочницы и отметил каждым, ловко посланным ножом, контур тени Стилета. Стилет был потрясен таким проворством. Он внимательно рассматривал «работу» и довольную мордашку Марата. Но это произвело впечатление не только на Стилета, но и на Босса, и на проснувшихся девиц.
Стилет протянул руку Марату в знак признания его способностей:
– О! Талант! Кто научил? – спросил Стилет, наклоняясь к Марату.
– Не знаю… они сами вылетают, как птички. – ответил Марат. – Я думаю, там их гнездышко. Они радуются, что сейчас полетят в гнёздышко. Я их отпускаю. И они летят туда сами.
Стилет повернулся к сидящим в машине и выкрикнул им:
– Слышь? Говорит, сами вылетают, как птички! А цель – это у них гнездышко. Ха-Ха! Здорово!
Сидящего за рулем Босса тоже развеселило откровение Марата. И он, повернувшись к девицам, повторил:
– Как птички… ха! Сами вылетают… Ну всё, Стилет! Размялся и хватит! Пора!
Стилет засунул руку во внутренний карман и извлек оттуда купюру.
Бросив купюру в 100 евро на бортик песочницы, он, весело подмигнув Марату, сказал ему:
– На! Вся стая твоя! Заработал!
Не собирая ножи, повернулся и пошел к машине. Открыл дверцу и, усмехнувшись и передразнивая детским писклявым голосом повторив: «Сами вылетают», сел в машину.
Вечером того же дня Марат уединился среди своих сокровищ. Он достал книгу сказок в переводе его отца с таджикского. Раскрыл ее. И с восторгом долго рассматривал заложенные между страниц разные фантики от «Чупа-Чупс», еще от чего-то с ковбоем, Марат встает в ту же позу, что и ковбой. Потом так же бережно достал купюру. Разглаживал её. Скручивал кулечком. Расправлял. Заложив ее посередине между вытянутым указательным и средним пальчиком, вытянув руку, помахивал над своей головой, представляя, что колыхающиеся края купюры – это крылья птички. Потом положил ее, как фото в семейный фотоальбом, признаваясь самому себе, что картинка на лежащем рядом фантике от «Чупа-Чупс» нравится ему гораздо больше, чем эта слишком строгая и взрослая картинка. Потом закрыл, погладив книжку ладошкой, с нежностью и к книжке, и к её «содержимому». Но тайна не давала покоя, вернее – Марат уже насладился удовольствием обладания этой тайной. И захотелось поделиться восторгом нежданного подарка. И он понес книгу матери, сидящей поближе к лампе и вышивающей тюбетейку.
– Мама… посмотри… новый фантик…
Но Маргарита была слишком занята и погружена в свои невеселые размышления, и поэтому не услышала сына. На плитке варилась еда, она шипела, заглушая его голос. Да и для него же включенный телевизор работал слишком громко. Но все же причиной было не это, а тревожная ситуация с Нарзикулом Давроновым. Последние их встречи оставили гнетущее впечатление от ощущения полного погружения в глубину его воспоминаний и неприятия реальности. Воспоминания его детства в Бишкеке, его юности, всё больше напоминали хрупкий домик улитки, в котором спешит спрятаться улитка. Казалось, что только любовь к сыну еще связывает его с этой жизнью. Когда, не дозвонившись ему по телефону, они с Маратом приехали в московскую квартиру, она сразу поняла, что он не был в квартире больше недели. На видном месте, под высокой пустующей хрустальной вазой, лежали, тщательно собранные в прозрачном пакете: короткая записка «Поехал проведать родные места! Целую! Люблю! Береги Марата! Твой старый Нарзикул», завещание на квартиру на имя Марата, разные документы, его фотографии времен поэтического фавора и ксерокопия его паспорта, заверенная у нотариуса. Об этом Нарзикул Давронов позаботился за день до своего отбытия в Бишкек.
Он шел налегке, ему было легко. Он был одет в синий, довольно потертый стеганый халат – народный костюм. Тот самый, что был преподнесен ему в дни чествования таджикской культуры в Москве 1990 года вместе с Госпремией. На которую он купил немыслимую в те годы роскошь – машину «Москвич» и даже золотой перстень с кроваво-красным рубином. С которым не расставался, точно прирос этот перстень, словно пуста рука без него. Он никуда не спешил, он ничего никому не был должен. Ему не было одиноко на перроне вокзала, да и какое уж там одиночество, когда под одной тюбетейкой уместились и он – Нарзикул Давронов, Облакум Узылтуев, и Джанибек Тогай, и даже автор лирических песен – Гюльджамал Улматаева, под именем которой он написал несколько шлягеров 80-х. Боковым взором он отмечал про себя, что люди поглядывают на него. Но, приглядевшись в надежде, что, быть может, узнают в нем некогда популярного поэта, – понимал, что они не узнают его. А скорее на секунду удивляются: «И зачем такой старый гастарбайтер примотался в Москву? Куда уж ему работать, ведь молодым работы не хватает!»