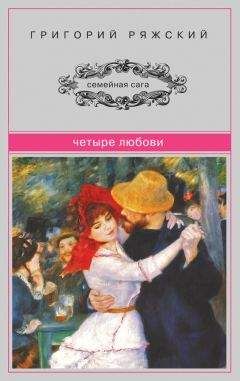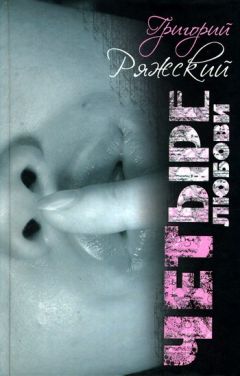Все молчали… Паузу нарушил дребезжащий старушечий голос с веранды:
– Нет, будет! Это пока еще мой дом, и здесь все будет, как я скажу. Это тоже ясно?
Люба Маленькая с ненавистью бросила взгляд на Любашу так, что та зажмурилась:
– И с этой уже договорились? С бабаней своей?
Тут же с веранды донеслось знакомое шипение, переходящее в жужжание:
– Лева, я ж-ж-е прос-с-с-ила тебя, я ж-ж-е предупреж-ж-ж-дал-ла…
– Гады! – выдала напоследок Маленькая и побежала вверх по лестнице, к себе. – Гады! – крикнула она еще раз, уже сверху вниз, и со всех сил захлопнула за собой дверь.
Через пятнадцать минут Маленькая приоткрыла дверь, осмотрелась и быстрым движением прошмыгнула в спальню Льва Ильича. Она взяла в руки воки-токи и отсоединила коробочку с динамиком от шнура. Затем спустилась на первый этаж – там не было никого, все были в саду – зашла в бабкину комнату и поменяла местами микрофонный приемник с таким же на вид передающим звук устройством. Вернувшись обратно, в спальню наверх, присоединила микрофон к шнуру. Все выглядело, как и прежде, с одной лишь разницей: там, куда нужно было говорить, теперь можно было слушать…
До конца дня Маленькая больше вниз ни разу не спустилась. После разыгравшейся на кухне сцены Лев Ильич не мог найти себе места. Он даже сделал было попытку объясниться с падчерицей, поднялся для этого наверх, но она ему не открыла и на его робкий стук не ответила.
Как всегда в последнее время, он долго не мог уснуть – не давала покоя Люба Маленькая. Он даже поймал себя на мысли, что думает о ней, обо всем, что произошло сегодня вечером в его доме, больше, чем о Любе и о ее надвигающейся смерти…
Дверь его скрипнула и приоткрылась, когда он, уняв двумя таблетками неровный сердечный перестук, начал проваливаться в темноту.
«Глотов, наверное… – Мысль явилась то ли в начинающемся сне, то ли в исчезающей яви. – Который на этот раз, интересно?..»
Глотов непривычно легкими шагами подошел к Леве и присел на кровать. Сквозь полусонную муть Лев Ильич успел отметить, что не услышал стука костыля о дощатый пол… что ни разу не шаркнул по полу протез вслед каждому сделанному шагу… что…
– Лева… – Он открыл глаза и всмотрелся в сидящую на его кровати фигуру. Это была Люба Маленькая. Она придвинулась к нему ближе и наклонилась совсем низко. От нее пахло молодой чистой кожей. – Зачем она тебе, эта курица? – спросила она его. – Потому что мама так хочет?
– Да… – ответил он. – Поэтому…
– И потому еще, что эта ведьма тоже этого желает, да?
– Нет, – ответил он. – Не поэтому, – пропустив оскорбительное слово мимо ушей.
– Но ведь ты ее не любишь совсем, – сказала Маленькая. – Я же знаю.
– Да, – ответил Лева. – Не люблю.
– И Любашу, дуру эту, тоже не любишь ведь, да?
Лев Ильич на миг потерялся. Он думал, Маленькая говорит о Любаше, когда в первый раз спросила о любви, оказывается – о его матери.
Он открыл было рот, но Маленькая быстро прикрыла его своей ладонью. Ладонь ее тоже пахла молодым телом:
– Ничего не говори… Я все про тебя знаю…
Он согласно кивнул веками. Глаза постепенно привыкли к темноте, и Лева увидел, что на Маленькой была одна лишь наброшенная на голое тело тонкая рубашка. Она была застегнута всего на одну пуговицу, внизу, чуть выше пупка, и когда Маленькая убрала ладонь с его губ, грудь ее нависла над Левиным лицом. Она склонилась еще ниже, и тогда ее сосок, маленький и твердый, коснулся Левиного подбородка и остался на нем лежать…
– Вы хотите курицу оставить в доме, потому что тебе нужна женщина? – спросила Маленькая отчима.
– М-м-м-м… – попытался Лев Ильич вставить слово, но слова не получались, потому что горячая волна откуда-то снизу прихлынула к горлу, пережав связки, держа и не отпуская их обратно.
– Хочешь, я буду твоей женщиной? – спросила Маленькая, почти касаясь губами Левиных губ. – Я ведь знаю, что ты этого всегда хотел, с тринадцати лет меня хотел. Помню, как ты смотрел на меня… – Коротким движением она скинула рубашку и осталась совершенно голой. Лева смотрел во все глаза, не веря, что это происходит с ним. Не веря, что это его Маленькая. Не веря, что это его дом. Не веря, что все это явь… – Пожалуйста, Лева… – Она отбросила край одеяла, юркнула в кровать и, прижавшись всем телом, обвила его руками, – Пожалуйста… Нам с тобой чужие не нужны… Нам с тобой будет хорошо… Да? Ты веришь?
Сердце Левино заколошматило молотилкой, разгоняя кровь по организму, отметая по пути все заботы и мешающие мысли. Горло разжалось, связки отпустило, и тело охватила такая неистовая страсть, что голова закружилась, дыхание стало прерывистым, и безумное желание пробило Льва Ильича насквозь, не оставляя места для любых, самых ничтожных сомнений. И тогда он в ответ обхватил Маленькую, прижал к себе что есть сил, задрожал и выдохнул:
– Да!.. Верю!..
Внезапно Маленькая откинула одеяло, вывернулась из Левиных объятий и вскочила на ноги рядом с кроватью:
– Говно! – Она злобно смотрела на отчима, и в свете фонарного луча света, пересекающего спальню поперек, было видно, как сверкнули ее глаза. – Говно ты, а не мужчина! Кусок дерьма!
Лев Ильич растерянно приподнялся на локтях, сердце еще продолжало накачивать кровь, проталкивая ее туда, вниз, к месту несостоявшегося ужаса и счастью, но мозги уже успели просигналить другое, сделавшее все, что случилось, понятным, объяснимым и отвратительным.
– Вот цена твоей любви! – Падчерица сжала в ладонях обнаженные груди и указала на них кивком головы. – Мама умирает, но еще жива! А ты!!! Ты готов залезть на меня по первому зову. И предать! И маму, и даже курицу свою безмозглую, даже ее! – Она развернулась, подхватила с пола рубашку и резко пошла вон. В дверях задержалась и снова обернулась:
– Предатель!
Лев Ильич без сил откинулся на подушку и перевел дух.
– Предатель… – повторил он и закрыл глаза. – Предатель…
Забылся он только под утро. Перед этим он твердо пообещал сам себе, что чужих в доме не будет. Что делать с обещанием, данным жене, он пока не знал. Ему надо было подумать, он решил оставить это на потом. Как и на потом – принять сердечные таблетки…
Проснулся он от резкого крика. Кричали снизу, с первого этажа, и Лева сразу понял, что кричит Любаша. Крик перешел в вой, а вой – в причитания.
– Господи! – Он быстро накинул халат и сбежал на первый этаж. Дверь в мамину комнату была распахнута настежь. На кровати лежала его мать, Любовь Львовна Казарновская-Дурново, она была мертва. Это было понятно сразу, как и то, что тело у нее уже холодное. Она застыла, лежа на спине, глаза ее были широко открыты, рот – распахнут настежь, оттуда тускло выблескивали по две золотые коронки с каждой стороны. Одна старухина рука была сжата в кулак, другая – со скрюченными пальцами. Перед кроватью на коленях стояла Любаша и, задрав голову в потолок, выла по-волчьи, не открывая глаз и одновременно крестясь. Через минуту в комнате возникла Маленькая. Лев Ильич повернулся к ней и тихо, почти одними губами, сказал:
– Отцу позвони…
Падчерица была на удивление спокойна. Она кинула на покойную равнодушный взгляд и без выражения ответила:
– Ладно…
Звонок в дверь прозвенел, когда Геник запаивал в твердую пленку свидетельство о регистрации транспортного средства на имя гражданина Объедкова Николая Николаевича. Рядом дымился утренний косячок, самый сладкий. Геник затянулся, выпустил дым и пошел в прихожую. Наученный предыдущим горьким опытом, он не стал открывать сразу, а сначала поинтересовался:
– Кто?
– Почта! – ответил из-за двери женский голос. – Заказная!
– Ну это другое дело, – пробормотал удовлетворенный ответом Генька и еще раз затянулся. – Почта – это святое, – и открыл дверь.
На пороге стояли четверо: двое в форме, двое в штатском. Один из них, в штатском, маленький и незаметный, показался ему знакомым.
– Генрих Юрьевич? – спросил он, и все быстро прошли в квартиру, оттеснив хозяина к стене.
– Ну конечно, мой друг, – ответил Геник, – Генрих Юрьевич. Для вас просто Генрих. Да и вы, я смотрю, почти не изменились.
Незаметный подошел к письменному столу, взял в руки свидетельство, покрутил так и сяк и бросил обратно на стол.
– Понятых и оформляйте! – бросил он другому, в погонах. Тот козырнул и вышел. – Жаль, – сказал незаметный, и Генька сразу ему поверил. – Искренне жаль, Генрих Юрьевич, что не хватило-то двух месяцев всего до дня рождения. Хоть и рецидив, но все равно учлось бы, наверное. Эти дела всегда учитываются, когда шестьдесят стукнуло. Такая уж практика.
Геник молчал.
«Хорошо бы в Новомосковск снова, – подумал он. – Там все свои…»
Второй в штатском в это время потянул ящик стола и начал там рыться. Через какое-то время он вытянул из дальнего угла круглую металлическую коробку с сургучным краем по всей окружности и перевязанную крест-накрест грязным свалявшимся бинтом.