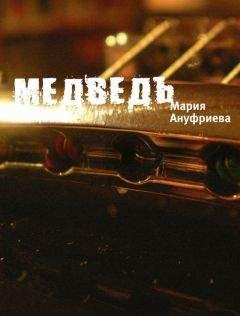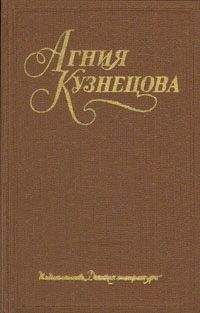Ознакомительная версия.
– Меня Жора зовут, еще увидимся, время будет, – пообещал он и вразвалочку пошел прочь.
Только тут я увидела, что его спина сплошь состоит из заплаток. Таких аккуратных квадратных заплаток, словно следы от горчичников – несколько кубиков в два ряда.
Муторный запах, купчиха и дремлющие в коридоре бомжи заставили меня искать возможность улучшить бытовые условия. Несколько платных палат оказались заняты. Возле моей кровати стоял сломанный стул с продавленным сидением и оторванной спинкой. Обойдя отделение, я присмотрела не менее старое, но все же целое кресло и унесла его в палату под одобрительное улюлюканье возлежащих на кроватях коридорных постояльцев во главе с Жорой. Поставила взамен сломанного стула, под печально свисающей с потолка липкой лентой с густо облепившими ее высохшими мухами, переставшими цепляться за жизнь еще прошлым летом.
Поздно вечером, когда я готовилась ко второй мучительной ночи, в коридоре раздался шум. Кто-то громко спрашивал медсестру:
– Она здесь лежит?
Вслед за голосом в нашу зловонную палату, подобно ангелу в развевающихся белых одеждах, влетел врач в сопровождении еле поспевающей за ним медсестры с поста.
– Собирайте вещи, вы переводитесь в другое отделение, во второе, – лаконично скомандовал посланец небес.
Два раза просить себя я не заставила и стала лихорадочно распихивать по пакетам свой больничный скарб. Едва ли когда-нибудь в жизни я собирала вещи так быстро, как на этот раз: вдруг передумают.
– Куда переводят-то? – заохали старушки, несмотря на плохой слух услышавшие стратегическое слово «второе». – На второй этаж? В реанимацию?
– В реанимацию, в реанимацию, – соглашалась я, поскольку и правда была готова бежать, лететь или ехать на каталке хоть в реанимацию, лишь бы подальше от запаха, Жоры и этой липкой ленты с мухами – печального привета национальному проекту «Здоровье».
Иногда для того, чтобы перенестись в другой век, совсем необязательно изобретать машину времени. Достаточно сделать всего несколько шагов. Закрыть одни двери и открыть другие.
Едва войдя в другие двери и плотно закрыв их за собой, я поняла, что дела мои пошли в гору, а жизнь налаживается. Сначала, стоя с вещами у поста, я не могла надышаться – благодаря герметичной стеклянной стене и, возможно, ионизаторам, тут не было невыносимого запаха предыдущего отделения. Интерьер стандартной клиники – сдержанно, светло, чисто, в холле журнальный столик с рекламой, на стене плазменная панель. Как в обычной жизни, к которой ты привык, не подозревая, что настоящая обычная жизнь – она, оказывается, вот там, за плотно закрытыми дверями, и после нее надо проветриться, чтобы от тебя не шарахались.
А твоя «обычная» жизнь не больше чем ширма, которой легко отгородиться, но ее также легко лишиться, когда нет денег и некому звонить.
Врач проводил меня в палату, похожую на гостиничный номер эконом-класса, – с той лишь разницей, что возле кровати стояла больничная тумбочка с выдвигающимся подносом, в котором предусмотрено отверстие для таблеток, а на стене была кнопка вызова медицинского персонала. И никаких наклеенных на стену файлов с бумажками для опознавания твоей скромной персоны врачами и не в меру ретивыми пациентами.
Естественно, я не могла отпустить врача, не обсудив вопрос о пересадке кожи. Он не стал отмахиваться от меня и заверил, что при условии соблюдения всех рекомендаций – ходить с открытой спиной, пить не меньше двух литров воды в день и есть много белковой пищи, стандартный ожог третьей А степени и впрямь заживет за двадцать один день. В любом случае у меня будет новый лечащий врач, и все выяснится завтра на перевязке.
В мою первую ночь в другом отделении я наслаждалась тишиной, чистотой, закрытой дверью в палату и комфортной температурой воздуха. Последнее было особенно важно, поскольку спать мне по-прежнему полагалось строго на животе, не укрывая спину.
Наверное, так чувствует себя праведник, попавший в рай. Как, в сущности, немного надо человеку – два дня и одна ночь в немыслимых условиях, и вот я уже радовалась больничной палате как лучшему номеру в отеле. А ведь попади я сюда сразу, наверняка не оценила бы уровень комфорта и еще осталась бы недовольна.
От снотворного я вновь отказалась, но обезболивающее все-таки взяла. Старушки в той палате напугали меня рассказами о перевязках: бинты отрывают по-сухому, обрабатывают раны перекисью водорода. Я слушала вполуха. Пускай отрывают, лишь бы не понадобилась пересадка кожи – и поскорее бы оказаться дома.
Однако чем ближе было утро с неминуемой перевязкой, тем тревожнее становилось у меня на душе. Спать на животе без возможности изменить положение тела и повернуться хотя бы набок – мука.
Под утро стали сниться лица обжегшихся чайниками старушек и обрывки фраз:
– По-сухому…
– Перекись водорода…
– Уууу, живодеры!
На грани сна и бодрствования мне припомнилась единственная примененная ко мне медицинская экзекуция, точнее – ее попытка.
В детстве я болела желтухой и два летних месяца провела в одной палате с шестнадцатилетними детдомовскими девчонками, отбиравшими у нас, первоклассниц, домашние передачки и горланившими, сидя вечерами на подоконнике, модную тогда песенку «Белая ночь пролетела, как облако…».
Когда выписка домой стала совсем близкой реальностью, я была на седьмом небе от счастья, но… Путь к ней лежал через непременное глотание желудочного зонда.
Накануне я весь день читала биографии Зои Космодемьянской и Алексея Маресьева, думая, что в момент неимоверных мучений буду представлять их лица. Но все оказалось тщетно.
Когда пробил час, две медсестры повели меня в процедурный кабинет. До сих пор помню, как там было холодно. Усадили на кушетку, положили рядом принесенное из палаты одеяло. Достали зонд, поднесли к носу и со словами: «Представь, что это клубничка! Открой ротик, солнышко!» – стали разжимать мне челюсти.
На секунду представив волевое лицо летчика Маресьева, я поддалась на их уговоры, но, стоило зонду коснуться нёба, до лица Зои Космодемьянской очередь уже не дошла.
Укусив державшую зонд женщину за руку и отпихнув другую ногами, я подхватила одеяло и, пока они не успели опомниться и схватить меня, бросилась прочь из холодного, сверкавшего белым кафелем кабинета.
Той ночью перед перевязкой в ожоговом отделении мне то ли снилось, то ли просто вспоминалось это давнее детское впечатление – я бегу по длинному гулкому коридору старой больницы, одеяло сползает, растрепавшаяся коса бьет по спине, а новенькая медсестра с поста, ничего не понимая, кричит кому-то:
– Это кто? Что? Цыганку, что ли, привезли?
Я бегу по длинному коридору больницы, чтобы успеть крестить Медведя. Мелькают названия реанимаций: токсикология, ожог, кардио – как карусель. Нет хирургической. Коридор замкнулся – приемный покой. Где она? Там, вверх по лестнице. Лестница обрывается, дальше нет ступенек…
Качается лицо Бегемотика: положительной динамики нет. У него большие очки, припухшие веки, немного раскосые, внимательные, очень проницательные и такие смешливые глаза. Породистый… Но вдруг припухлость превращается в мешки под глазами, и кислый запах со второго этажа поднимается – медленно – ко мне, на шестой. Обволакивает…
Бегемотик смотрит и улыбается – вежливо, интеллигентно, ровно, как улыбаются хорошие врачи. Я кричу ему:
– Я не хочу умирать! Эй, я жива! У меня всего лишь обожжена спина, но это не смертельно, это ерунда! Меня не надо реанимировать! Я жива! Уберите этот запах!..
Никто не слышит, и Бегемотик не слышит, а кислота втекает в меня, распирает изнутри, лишает дыхания. Моего дыхания. Из последних сил я машу руками, пытаясь привлечь внимание Бегемотика. Наконец, он сверяется с историей болезни и говорит бодро, как для телекамер:
– Жива? Жива! – и растворяется в боли. Далекой, но ощутимой боли из реальности.
Опять коридор, за мной никто не гонится. Покусанная медсестра с зондом оставила меня в покое. Повторную экзекуцию мне тогда назначать не стали, заменив глотание зонда подобием рентгена, перед которым надо было выпить два сырых яйца натощак. Всего-то.
«На этот раз сырыми яйцами дело не обойдется», – подумала я, окончательно проснувшись, и, дав слабину, быстро, чтобы не передумать, кинула в рот таблетку обезболивающего.
Утром в палату пришла врач – невысокая энергичная седая женщина. Не знаю, лечила ли она солдат в Афгане, но мне сразу стало спокойно: было видно, что ожогов на своем веку она повидала немало.
Глянув на мою повязку, она скомандовала:
– Идите в душ и аккуратно, не спеша, теплой водой сами отмачивайте ее. Площадь ожога большая, если мы будем по-сухому снимать, вы у нас с ума сойдете.
Я покорно поплелась в душ, радуясь хотя бы тому обстоятельству, что палата оборудована новой душевой кабиной и мне не придется плескаться в ржавой лоханке открытой настежь душевой, которую я видела в отделении напротив.
Ознакомительная версия.