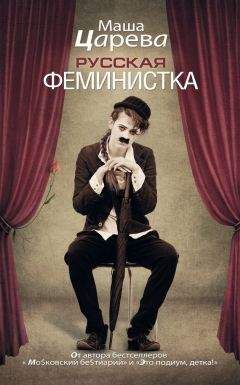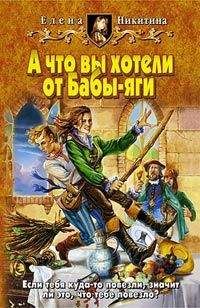А из Сары была плохая наставница в любовных утехах, потому что единственным сексуальным опытом, который она получила к своим двадцати трем, было прикосновение губ коннектикутского плотника к волосам на ее виске; а в целом она была обычной простушкой, не отличавшейся ни воображением, ни умом.
Так что закончилась эта история предсказуемо плачевно. Под руководством Сары Лека подколола булавками бархатное платье своей мамаши, которая была шире ее на добрый десяток размеров. Сара одолжила моей непутевой подруге свой любимый бант и бусы из фальшивого жемчуга. Я чуть ли не на коленях умоляла Леку остановиться – я же знала, как она ранима и зависима от чужого мнения, и словно наяву видела, как хулиган смеется над нелепой нарумяненной толстушкой в пыльном бархате. Но остановить ее было не проще, чем взглядом удержать снежную лавину, ведь в мечтах Лека уже гуляла по району под ручку с хулиганом, и он слагал в ее честь дурацкие песенки, в которых рифмовал «любовь» с «кровью», а «весну» – с «сосной».
И вот, подстрекаемая дурочкой Сарой, она с колотящимся сердцем отправилась в атаку. Конечно, я не отказала себе в удовольствии спрятаться за одним из гаражей и понаблюдать за ее фиаско. Одного ей удалось добиться со стопроцентным успехом – хулиган был поражен и обескуражен. Полная, выглядящая гораздо взрослее своих двенадцати с половиной, потная от волнения и забавно пыхтящая Лека в жемчугах и бархате явилась пред его очами точно призрак оперы. Он даже отшатнулся в первый момент, но потом взял себя в руки и скривил обветренные губы в хамоватой вопросительной усмешке. Лека же протянула ему Библию, которую подарила ей Сара. «Давай почитаем вместе… гм… как-нибудь!.. Ну, или пойдем в Третьяковку… там… Шишкин». На слове «Шишкин» она залилась таким свекольным румянцем, что мне пришлось зажать обеими ладонями рот, чтобы не рассмеяться в голос.
Мне было жаль ее, такую нелепую и доверчивую, но я точно знала, что однажды настанет день, когда мы будем вспоминать эту историю хохоча. Так и получилось – иногда в полутьме какого-нибудь винного бара, после третьей кружки глинтвейна, я толкаю ее локтем в бок и начинаю: «А помнишь…», и она с криком «неееееет!» зажимает руками уши.
Конечно, он послал бедняжку далеко и витиевато. Красная Лека, подобрав слишком длинную юбку, из-под которой торчали изъеденные солью сапоги, прыгала через лужи. Наверное, в тот момент ей хотелось испариться, исчезнуть с лица земли. Да еще и вечером ей попало от матери, которая заметила брызги грязи на своем единственном вечернем платье. Женщины девяностых дорожили нарядами точно священными артефактами – покушение на целостность платья несчастной измотанной тетки, которая все еще хочет ощущать в себе внутреннюю принцессу, было подобно богохульству.
– Мамка за мной с ремнем бегала, – поведала Лека на следующий день. – Вокруг кухонного стола.
– А Сара что? – усмехнулась я.
– Ну а что Сара, – вздохнула моя подруга. – Говорит, что у девочек застенчивость выражается в молчании, а у мальчиков – в грубости. Что это нормальная реакция.
– Ага, ты слушай ее больше. Видела, с каким она сегодня адским бантом?
– Да ну тебя, – насупилась Лека. – Ты ее просто недолюбливаешь.
В тот день они о чем-то долго шушукались с Сарой, и на последнем уроке Лека поразила меня в очередной раз. Потом я привыкну к тому, что в душе у этой тихони омуты, заставляющие ее делать самые неожиданные выводы в самые неподходящие моменты. Она была древний гримуар, к которому влечет необъяснимо, хоть ты и не знаешь наверняка, что обнаружится на его страницах, когда ты нетерпеливо сдуешь с них пыль.
Во-первых, Лека сказала мне, что Сара все-таки дурочка. А во-вторых, она решила принять крещение в православной церкви.
Признаться, я даже не нашлась, что ответить. Отношение к религии в моей семьи было весьма специфическим.
Моя мать Лу никогда не была атеисткой, но и к существующим конфессиям относилась с изрядной долей иронии. Не имея ничего против идеи веры как спасения и богоподобия как смысла жизни, она любила рассуждать, что церковь отупляет личность. Я была слишком маленькой, чтобы понимать ее монологи, но манера речи Лу была такой, что я слушала с удовольствием, и некоторые слова намертво впечатывались в память. У меня были годы для того, чтобы их осмыслить. Уже сейчас, когда я стала взрослой, а свобода самой Лу обернулась почти сумасшествием, я часто ловлю себя на том, что я словно спорю с ней. Та Лу, из прошлого, красивая, молодая, страстная, стала моим воображаемым другом. Ее слова звучат у меня в ушах так явственно, на грани слуховой галлюцинации.
Лу говорила, что религия пытается объективизировать мораль, в то время как она не может быть объективной.
Она считала единственной возможной заповедью – не мешать другим, если речь не идет о самообороне или защите слабого. И осуждала христианство за идею принятия и терпения.
– Ты знаешь, что, если долго сдерживать боль, будет рак? – спрашивала она меня, десятилетнюю, испуганно внимавшую. – Ни в коем случае нельзя спускать подлецам их проделки! Если, конечно, не хочешь откинуть тапки раньше времени. Не позволяй никому стоять у тебя на пути и мешать тому, на что ты имеешь право.
Для Лу существовал единственный бог – гармония. Она считала, что только те люди, которые сумели поймать состояние спокойного равновесия, нашли бога, а все остальные жестоко заблуждаются. Она с презрением относилась как к вялотекущим депрессиям, так и к пафосу радостного экстаза, считала и то и другое равно вредоносным для той части мозга, которую люди привыкли называть «душой».
К сожалению, Лу умела только строить теории и воздушные замки. Потому что сама она этого благодатного сформулированного ею же бога так и не нашла – провела первую половину жизни в экстазе и непрекращающемся стрекозином вальсе, а вторую – под пуховым черным крылом депрессии, которая сначала поселилась в ее сердце едва заметным проклюнувшимся зернышком, но довольно быстро окрепла и выросла в безразличный к атмосферным переменам баобаб, поглотивший все ее существо. Выражение ее лица к старости стало плаксивым, глаза были вечно влажными, как будто она либо только что плакала, либо готова это сделать. А ее некогда звонкий и высокий, как серебряный колокольчик, голос стал скрипучим и резким – такое случается со злостными курильщиками и с теми, кто почти никогда не говорит о радости и любви.
Однако я росла в атмосфере уверенности, что бог существует где-то вокруг, и что его возможно нащупать внутри себя, и для этого совершенно необязательно приходить в храм.
Храм – это не настоящий бог, а что-то вроде таблетки плацебо. Пустая оболочка, притворяющаяся дорогим лекарством, которая вполне может спасти доверившегося, но оттого не становится открытием, перевернувшим мир.
Поэтому я очень удивилась, когда Лека заявила о своем намерении, удивилась, но на всякий случай промолчала.
И вот несколько суббот спустя мы с Лу были приглашены на крестины. Мать Леки, хоть всю жизнь молилась единственному божеству – деньгам, которые позволяли чувствовать себя не ущербной в обществе, придумавшем для одиноких женщин обидное слово «брошенки», приняла с энтузиазмом идею дочери соприкоснуться с чем-то бо́льшим, чем была она сама.
Она сшила для Леки платье из купленной в хозяйственном тюлевой шторы. Должно быть, ей казалось, что ее взволнованное румяное дитя выглядит как невинный ангел, на самом же деле Лека, у которой к тому времени уже округлились грудь и попка, смотрелась как изображающая невесту порноактриса.
Платье просвечивало, и молоденький священник, путаясь в словах, отводил взгляд от треугольника темных волос на ее лобке. Сама Лека этого не замечала – она долго оставалась инфантильной и воспринимала себя ребенком, даже когда мужчины вовсю причмокивали ей вслед, причем их трудно было обвинить в преступных наклонностях, потому что выглядела она взросло, а одевалась довольно вульгарно.
И вот там, в духоте и ладанном мороке храма, я вдруг с ужасом почувствовала, как что-то горячее течет по моим бедрам. В панике я схватила за руку Лу, которая стояла рядом. Та сразу поняла, что что-то не так, и быстро вывела меня на улицу под неодобрительным взглядом других гостей. Помню, кто-то даже сказал ей вслед: «Ууу, ведьма пошла, плохо ей в святом месте стало». Хотя Лу вежливо соблюла православный дресс-код – и платок наличествовал, и юбка длинная. И она была вовсе не виновата, что в черном выглядит демонически.
На улице я рассказала ей, что случилось, и она, рассмеявшись, потрепала меня по волосам.
– Ты у меня совсем уже взрослая. Помнишь, я тебе давала читать книгу о пестиках и тычинках?
Я потрясенно кивнула. Конечно, как ребенок, который много времени проводил во дворе и прекрасно там ориентировался, я без пестиков и тычинок знала и о том, что такое менструация, и откуда берутся дети. Только вот почему-то не соотносила эту информацию с собою. Мне казалось, что все это случится в отдаленном и даже каком-то абстрактном будущем. Мы вот любили собраться на крыше одного из гаражей и поговорить о том, что в 2000 году случится конец света, и это будет захватывающе и жутко, и как же хорошо, что мы уже успеем достаточно пожить на этом свете, ведь нам будет целых двадцать лет.