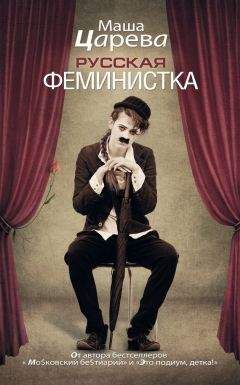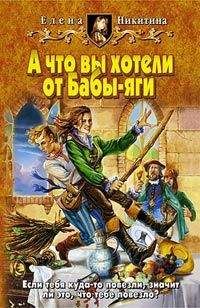Мне так повезло наблюдать все это изнутри.
Многие девочки девяностых почему-то взрослели рано. Наверное, нестабильность способствует зрелости. Первой моей приятельнице, применившей золушкин сценарий на практике, было всего тринадцать лет. Конечно, выглядела она отнюдь не Лолитой, хотя, по иронии судьбы, звали ее именно так. Лола всегда была с полнинкой, и в тринадцать у нее уже были крутые бедра и грудь, и даже намечающиеся усики над полной и темной верхней губой. Она была вульгарна как сорока-воровка. Впрочем, все мы мало что понимали в моде, да и не было у большинства из нас денег на осуществление фантазий такого рода. В большинстве случаев наш гардероб являл собою чудовищную эклектику из атрибутов торжества советской и польской текстильной промышленности, перешитых маминых платьев да чудом просочившейся синтетики в «огурцах», которые, как мы узнали позже из глянца, на самом деле назывались «пейсли».
Лола же расшифровала бальзаковскую формулу «блеск и нищета куртизанок» с трогательной прямолинейностью – ей отчего-то казалось, что первое отвлекает внимание от второго. Каждый день она выглядела так, словно собиралась на гей-парад – выбеливала лицо какой-то странной пудрой, больше похожей на сахарную (не исключено, что соскабливала побелку с потолка, я где-то читала, что к таким хитростям прибегают иногда женщины-заключенные), носила свитера с люрексом и красила веки то зеленым, то фиолетовым. Эта пошлость в ее исполнении, как ни странно, выглядела не жалко, а, скорее, концептуально – карнавал такой, почти кустурицевщина.
Лолита была дерзкой, смешливой, голос у нее был низкий, глаза блестели каким-то космическим голодом. И она всем рассказывала байки, что у нее имеется свой, личный, так сказать, «бандит», и ему уже двадцать два года, и он косая сажень в плечах, и носит кожанку и темные очки, и стрижен «ежиком», и ездит на «харлее». Мы слушали заинтересованно, но, разумеется, не верили ей. Некоторые из нас еще играли в куклы, а возраст двадцать два воспринимался нами пригородом старости. Однако на школьной диспансеризации пунцовая гинекологиня выскочила из кабинета как ошпаренная, оставив пыхтящую Лолу пристегивать украденные у матери чулки к колючим синтетическим подвязкам.
Выяснилось, что мадемуазель беременна, срок критический – десять недель. Новость быстро разнеслась по школе – и в учительской, и в «курилке», и в физкультурной раздевалке горячо обсуждали как акселерацию в целом, так и Лолкину распущенность в частности. Самой же ей было даже не то чтобы все равно – этой нахалке, похоже, нравилось быть в центре внимания и плевать на повод. Я не знаю, почему она приняла решение оставить ребенка – то ли на нее давили родители, то ли она была не в состоянии сопоставить грядущую ответственность с новой эпатажной ролью, которая ей пришлась по вкусу.
Живот ее рос, а она по-прежнему ярко красилась, носила люрекс и казалась беззаботной. Если честно, я не знаю, что случилось с Лолитой потом. Она перешла на систему экстернат, и мы потеряли ее из виду, только однажды классная руководительница сухо сообщила, что у Лолки родилась дочь. Но почему-то я очень сомневаюсь, что ее двадцатидвухлетний принц на «харлее» подобрал хрустальную туфельку.
Лолита была не единственным школьным ЧП девяносто второго.
Вот что случилось в самом начале второй четверти: один из моих одноклассников, некий Миша Парамонов, серенький троечник и тихоня, самой приметной чертой которого были яркие, точно китайские праздничные фонарики, прыщи на высоком лбу, пришел в школу в таких джинсах, что все мы замерли эдаким лотовым гаремом. На всякий случай повторю еще раз, что из «простых» в нашей школе учились я да Лека, всех остальных трудно было удивить любым атрибутом мира материального, будь то одежда или еда.
Мои двенадцатилетние одноклассницы приходили на школьные вечеринки в одолженных у матерей платьях от Кардена, у всех были и духи как минимум «Мажи Нуар», и зачитанные номера французского Vogue, мальчишки же обладали собственными сокровищами – американскими сигаретами и польскими порножурналами. Но у Парамонова получилось поднять девятибалльную волну в нашем сытом болотце.
Джинсы были сшиты из крошечных кусочков, обтрепанных по краям, и сидели на его тощей заднице как влитые. Колени украшали коричневые замшевые заплаты. Был в этих джинсах некий особенный, небрежный, богемный шик, их вполне можно было представить на склонной к эпатажу звезде любого масштаба – хоть на Элвисе Пресли, хоть на Мике Джаггере. Но владел ими Парамонов Михаил, семьдесят девятого года рождения, обладатель тихого, еще не оформившегося в мужской басок голоса и нескольких произраставших из вяловатого бабьего подбородка курчавых длинных волосин, которые он упорно не сбривал, ибо они были чем-то вроде талисмана, указывавшего на его принадлежность к гендеру рыцарей и пиратов.
Естественно, все смущенного Мишу обступили. И девочки, и мальчики.
– Вот же, блин! Как это круто! – бесхитростно восхитился Петя, сын дипломата, один из самых богатых мальчиков в нашей школе. – Откуда у тебя такое чудо?
Миша Парамонов польщенно зарделся. Изгоем он никогда не был, но и вниманием его никто не жаловал. Его воспринимали чем-то вроде мебели – есть Парамонов, и хорошо, не было бы его – тоже ничего не изменилось бы.
– Дай поносить! – взмолился Сева Рябцев, который в свои двенадцать с небольшим выглядел на все пятнадцать, потому что был рослым и посещал с отцом подвальную «качалку». Разумеется, большинство наших девиц были в него влюблены, чем он охотно пользовался, позволяя им делать его «домашку» по алгебре и английскому. – У меня свидание в пятницу. Что, тебе жалко, что ли? Я не испорчу.
– А хочешь, я у тебя их куплю? – надменно вздернув подбородок, предложила школьная красавица Ниночка Такелава. – Только цену назови. Отец мне дает столько денег, сколько я попрошу.
Мишин триумф длился минут пять с половиной, после чего он имел глупость честно рассказать о происхождении чуда.
– А это я сам сшил, – признался он. – Все каникулы над ними сидел.
Недоверчивое молчание было ему ответом. Парамонов и не подозревал, куда иногда заводит бесхитростность и почему в обществе молодых волчат опасно намекать на инакомыслие, поэтому он продолжил копать себе невидимую могилу:
– Братишка из джинсов своих вырос, я попросил мать не продавать… Отцовские дачные были штаны… Еще одни я купил у мальчика во дворе – недорого получилось, потому что старенькие совсем. А заплатки – это бывший дедушкин пиджак. Ему сто лет в обед… В смысле пиджаку, а не деду. Хотя деду, если честно, тоже. – Парамонов визгливо хохотнул.
Он не привык выступать перед внимающей широкой аудиторией. У него была речь человека, который боится, что каждую минуту его могут перебить, оборвать, потерять к нему интерес. Пройдет еще несколько недель, и Миша будет мечтать, чтобы интерес к нему был утерян, высшим благом будет ему казаться снова обрести привычный статус мебели.
– Это не так сложно. Хотя я ж давно шью. Сначала по выкройкам из «Бурды» маминой. Потом сам придумывать модели начал. Маме на день рождения платье вечернее сшил. Я вообще этим заниматься хочу. После девятого в училище пойду, а потом – в текстильный институт.
– Чем заниматься – платья бабам шить? – не выдержал еще пять минут назад излучавший дружелюбие Сева Рябцев. – Надеюсь, ты шутишь?
В тот момент мне захотелось подкрасться к Парамонову и подать ему какой-нибудь знак, спасти его. Дернуть за рукав, на ногу наступить – только, чтобы он замолчал. Но, во-первых, это едва ли получилось бы сделать незаметно, а во-вторых, Миша, к несчастью, был тугодумом и едва ли понял бы подобного рода намек. Поэтому я просто стояла рядом и молча смотрела, как он летит в пропасть, не осознавая состояния падения и даже будто бы чувствуя ногами несуществующую твердь.
– Почему шучу? – Он захлопал бесцветными ресницами. – Руки у меня хорошие… Только бы подучиться. Кооператив открою.
Наверное, если бы наша школа располагалась где-нибудь в Чертанове и посещал бы ее бесхитростный рабочий люд, то это был бы последний день жизни Миши Парамонова – его попросту отловили бы после уроков, опрокинули лицом в снег и забили ботинками.
Мне и до сих пор неясна природа гомофобии.
Но по моим личным наблюдениям, чем человек более бесхитростный, тем выше степень его агрессии к отличиям такого рода. Во всяком случае, я ни разу не встречала сложносочиненного гуманитария, который испытал бы сильные негативные эмоции при осознании того, что за дверью чьей-то спальни происходит вот такое. Еще неоднократно замечала, что лютые гомофобы не уважают женщин. Потому что для них на вершине этическо-интеллектуальной пирамиды находится МУЖЫГ (как говорится, в суконно-посконном значении слова; мужыг сказал – мужыг сделал; мужыг – голова, баба – шея; мальчики не плачут, и прочий не нуждающийся в дополнительной расшифровке маразм).