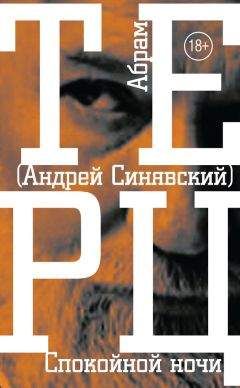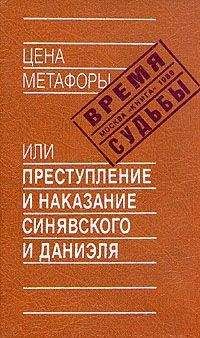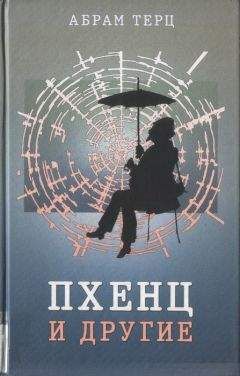Внешности своей, портрету, я значения не придавал. Плевать мне на какую-то бороду! Но уж очень они что-то старались, настаивали… Раскаяние? Измена себе? Потеря лица? Чего этот Пахомов, по важным делам, крутится вокруг бороды?.. Нет, сволочи! Не дамся. Короче, мало-помалу я становился уголовником, как сами они называли, злым и недоверчивым зэком, высчитывающим каждый шаг от обратного. Только от обратного!..
Да и то, пораскинуть мозгами, пройдет год, большой лагерный год, и к Даниэлю, на 11-м, подвалится заезжий чекист, к станку, в производственной зоне.
– Привет вам от Синявского! – скажет, внимательно поглядев, как Даниэль вытачивает какое-то, по норме, дерьмо. – Я только что из Сосновки, с первого лагпункта. Синявский просил кланяться…
– Спасибо, – ответит, не поворачивая головы, Даниэль. – Что Синявский?
– Нормально. Ничего. Здоров. Недавно побрился…
– Как – побрился?! – не поворачивая головы, Даниэль.
– Да вот так. Он теперь без бороды. Я сам его видел. Разговаривал. Вот привет вам привез…
Стоит ли пояснять, что я и в глаза не видал этого хмыря? И бороды не брил. Далась им моя борода! И никакого привета, с чекистом, не посылал…
Расставаясь со мной, Пахомов, в последний раз, посоветовал:
– Ох, подожгут вам урки вашу лопату! И не идет вам совсем. Помяните мое слово!..
И взаправду, утром – этап. Все как полагается, как читали: овчарка, автоматчик. «Шаг вправо, шаг влево…» Ноги разъезжаются. Март. Со свежего воздуха я шатаюсь. Неужели действительно выстрелит, если, допустим, поскользнусь? Дальняя, тыльная сторона вокзала. Кажется, Казанский? Не разобрать. Черные человечки копошатся на шпалах. Светает. Скользко. Всаживают в поезд на каких-то интимных путях. Безлюдно. Пустой вагон. Голое железо. Через весь зарешеченный коридор, дальше, дальше, в передний отсек. Стоп. Тройник. Один. Столыпин. Полчаса не прошло, слышу топот, ругань, лязг, толпа, забивают арестантов, в клети, по отсекам, не докатываясь до меня. Ах да – я же политический, опасный! А за мной, за перегородкой, по клеткам, вперемешку – блатные, урки, бытовики – навалом! Бедняги! Я, как барин, сижу один, в отдельном тройнике, чтобы не было эксцессов, наверное. Ловлю имена, голоса. По вагону – гогот, брань, перепалка.
– Люба, Вера! Хочешь – пососать?
Уж на что я привычный…
– Иди на хуй! – огрызается Люба или Вера. Кокетничает. Бодрится, чтобы не заплакать. Весело кричит «на хуй», а в голосе злые слезы. Сколько ей дали – восемь или десять? Мне как-то совестно в одном купе на троих… Трогаемся, вроде. Куда? Я не верю Пахомову. На юг или на север? Не все ли одно? Едем. Кажется, едем. Не доводилось еще в вагоне без окон, где только по стуку колес успокаиваешься: едем!
Разносят кипяток. Хлеб, селедка. В зарешеченную дверь, ромбами, виден отрез коридора. Бегает конвой. Огрызается: кого в уборную? Меня, меня в уборную! Выводят. Спереди и позади по солдату. Руки назад! Не оборачиваться! Иду на оправку. Кошу глазом: слева, людской стеной, в зоопарке, – глаза, пальцы, носы. Не задерживаться! Быстрее! И вдруг – в затылок – призывным криком:
– Синявский! Синявский!
Не останавливаться! Шальная мысль: Даниэль? Юлька? Здесь? Его тоже везут? Кто другой yзна́eт меня? Нет, не его голос… С оправки. Кошу направо. Зэки, зэки и зэки – как сельди в бочке. Сзади – опять:
– Синявский!..
И – смех… Нет, не Даниэль! Но откуда? Кто?.. Камень на сердце. Догадываюсь: конвой разболтал. Либо специально подстроено. Хотят проучить, напугать. Пахомов предупреждал: подожгут. Сбывается…
Подходит начальник конвоя. Молодой, собранный. Точеный. Затвор от винтовки. Смотрит спокойно и холодно ко мне в клетку.
– Откуда, – спрашиваю, – у вас тут, в вагоне, знают меня по фамилии? Все документы – у вас. Никого ж не было, когда меня – заводили. И, вообще, никто меня никогда не видел. Почему окликают? Это вы им рассказали?..
Тот долго и мрачно, через решетку, покачиваясь, всматривается в меня. Вспоминает. И злобно, словно я Пугачев, чеканя:
– А тебя теперь все знают!
Лицо мраморное, прекрасное, как это в мраморе бывает, с розовыми прожилками, в сдержанной ненависти ко мне, которые, не дай Бог, нальются чуть более розовой кровью, и треснет – мрамор, но белое покамест, как бюст. Из таких бы лиц высекать памятники легионерам конвойной службы, когда боец держит тебя на прицеле, а та рычит, та рвется с прицепки, но тот, усилием воли, ее осаживает назад, с непроницаемым, как пьяный, лицом, в исполнение дисциплины, презрения и гордого довольства собой, что он тебя не убил, только смерил взглядом и, не удостоив внимания, цокая подковками, пошел дальше по вагону.
– А тебя теперь все знают!
Плохо мое дело. Ясно: конвой разболтал – кого везут и за что. Только вот куда и сколько еще ехать – не ведомо…
Вечером или ночью – в темноте, в прожекторах не поймешь, который час, – выгружают. На сей раз – всех вместе, не разбираясь в мастях. Сбитой в загон отарой мы вертимся, мы теснимся на снегу, в прожекторах, наставленных в наше крошево.
– Где мы? – громко спрашиваю.
– В Потьме! Мордовская АССР! – отзывается рядом какой-то, должно быть, бытовичок. – Вы что – не узнаете? Раньше – не бывали? Вы из какой тюрьмы будете, простите?..
– Из Лефортова.
Твердо – из Лефортова. Для меня Лефортово – марка. У меня отец еще сидел в Лефортове, и я ему деньги носил. Что ни месяц – 200 рублей, считая старыми деньгами. Для них – не известно еще, звучит ли это имя, означает ли что-нибудь? Но я – из Лефортова…
– Из Лефортова?! – разом откликнулось несколько голосов. – Смотрите – он из Лефортова! Один – из Лефортова! Где – из Лефортова?..
Когда я повторяю сейчас эти гордые знамена – «из Лефортова», – я знаю, что говорю. И мне хочется, чтобы Лефортово оттиснулось на лбу режима не хуже, чем Лубянка, Бутырка, Таганка… Лефортово почиталось, между знатоками, особенной тюрьмой. За Лефортовом стлались легенды, таинственные истории… Будет время – я об этом расскажу. А пока:
– Я из Лефортова…
Смотрю, проталкиваются – трое. Судя по всему – из серьезных. Независимо. Раскидывая взглядом толпу, которая раздается, как веер, хотя некуда тесниться.
– Вы из Лефортова?
– Из Лефортова.
– А вы в Лефортове, случайно, Даниэля или, там, Синявского – не видали?..
– Видал. Я – Синявский…
Стою, опираясь на ноги, жду удара. И происходит неладное. Вместо того, чтобы бить, обнимают, жмут руки. Кто-то орет: «качать Синявского!» И – заткнулся: «Молчи, падаль! Нашел время…»
В большой, общей, – я никогда еще не видал таких больших и общих, – параше, куда вмещается разом пол-этапа, где мы будем спать рядами, строго на правом боку, чтобы уместиться на нарах и не дышать друг другу в лицо, – все проясняется. Народ грамотный, толковый. Рецидивисты. У одного четыре судимости. У другого – пять. Я один – интеллигент, «политик». Послезавтра, говорят, нас развезут, кого куда, по ветке, по лагпунктам, которых всего, считая по номерам, девятнадцать. И мы уже не встретимся, не пересечемся. Политических с некоторых пор отделяют от уголовных. Чтобы не слилась, очевидно, вражеская агитация с естественной народной волной. Боятся идеи? Заразы? Им виднее. У них опыт позади – революция. Но куда еще идейнее, активнее добрых моих уголовников и кто из нас тут, не пойму, опасный агитатор? Каждый торопится выразить свое уважение. Еще бы – читали в газетах! большой человеке преступном мире! пахан!..
– По радио про вас передавали, Андрей Донатович!.. Я сам слышал!.. По радио!..
В блатной среде ценится известность. Но есть и еще одно, что я уцепил тогда: вопреки! Вопреки газетам, тюрьме, правительству. Вопреки смыслу. Что меня поносили по радио, на собраниях и в печати – было для них почетом. Сподобился!.. А то, что обманным путем переправил на Запад, не винился, не кланялся перед судом, – вырастало меня, вообще, в какой-то неузнаваемый образ. Не человека. Не автора. Нет, скорее всего, в какого-то Вора с прописной, изобразительной буквы, как в старинных Инкунабулах. И, признаться, это нравилось мне и льстило, как будто отвечая тому, что я задумал. Такой полноты славы я не испытывал никогда и никогда не испытаю. И лучшей критики на свои сочинения уже не заслужу и не услышу, увы…
– Ловко ты им козу заделал!
– Я – думал, а ты – писал!
– Семь лет – детский срок! И не заметите, как пролетит…
– Да за такой шухер я бы на вышак согласился!
– Скажи, отец, и я поверю! – выскочил молодой человек, шедший по хулиганке. – Коммунизм скоро наступит? Ты только – скажи…
Куда мне было деваться? Здесь же, среди них, в принципе, и стукачи водятся… Пахомов, еще до суда, напутствовал: учтите – за продолжение в лагере в устной или в письменной форме… Наша вольница, однако, не приученная к подводным камням хитрой 70-й статьи, завороженная, умолкла. Все ждали от меня, наступит ли коммунизм. Как опытный педагог, я ответил уклончиво:
– Видите ли, за попытку ответить на ваш интересный вопрос я уже получил семь лет…