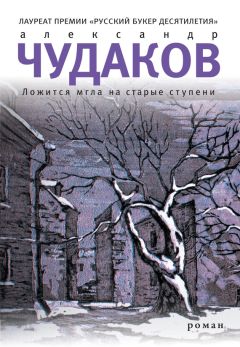– Иду на таран! – кричал Васька, пытаясь направить свою ледянку на Кемпеля. – Смерть немецким оккупантам!
Но непредсказуемая ледянка, крутясь, врезалась в санки Вальки Шелепова, а непротараненный Кемпель тоже орал про смерть немецким оккупантам и ударял в бок мои санки.
– Та-та-та-та-та-та! – изображал автоматчика Генка Меншиков. Он всегда, даже во время уроков, стрелял из автомата. Его ставили к доске, выгоняли из класса, вызывали родителей, но не помогало ничего – он продолжал строчить очередями.
Банная Горка сыграла роковую роль в судьбе моей первой учительницы. «И кажется я тому причиною».
В тот день, придя после катанья домой, я сразу расстроился: с мамой не поговорить – по делам олимпиады пришла завуч нашей школы, которую у нас дома называли Сорок Разбойников. У отца для домашнего употребления почти все преподаватели имели прозвища: Ваня Скок, Златозубка, Заплаткин, Который за Кустом. Последнее прозвище, впрочем, по словам мамы, придумал я лет в пять – ходил и распевал: «Соркин ходит за кустом, за кустом!» Математик Константин Христофорович именовался «Младший Бенкендорф» – по совпадению его имени-отчества с братом шефа жандармов. Но женщины ушли в другую комнату, значит с отцом можно было беседовать без помех.
– А мы сейчас возле бани с горки катались, – сообщил я.
– С ледяной? – рассеянно спросил отец. Он, не отвлекаясь от газеты, всегда умел схватить суть ситуации. В данном случае эта суть заключалась в том, что горку вчера Петрович полил сточной водой, и она покрылась толстым слоем превосходного грязно-серого льда.
– Ледяной! – я рассказал про Петровича. Отец молчал. Тогда я пустил в ход вторую, сенсационную новость.
– А с нами Клавдия Петровна каталась.
– Угу, – сказал отец. Его, видимо, не очень удивило, что учительница начальной школы руководила развлеченьями своих питомцев. Но тут я добавил с торжеством:
– На венике!
– Хорошо, – сказал отец. Потом вдруг опустил газету. – Как ты сказал?
– На венике, – твердо повторил я. – На банном.
– Погоди-погоди. Кто катался на венике?
– Клавдия Петровна. Она каждую среду после бани так катается. Васька говорил. Только я в это время «Музыкальную шкатулку» слушаю. А сегодня радио не работает – мукановский верблюд чесался об столб и сломал.
– Чесался об столб… И как это она катается?
– Садится и едет. А сумку держит на коленях, – объяснил я.
– Кто катается на венике? – спросила, входя в комнату, мама.
– Клавдия Петровна, – сказал я с неохотой, потому что за маминым плечом уже маячила Сорок Разбойников. Учительницу на самом деле звали Стапарнара Федуловна. Но имя это ученики никак не могли правильно запомнить. Однако подать заявление в загс об изменении она долго не решалась, ибо имя расшифровывалось как «Сталин – партия – народ». Бедняга надумала испросить позволения в облоно. Завоблоно направил её письмо секретарю райкома. Тот – неожиданно быстро – разрешил. Поговаривали, что, воспользовавшись совещанием в области, он посоветовался с Первым. Историчка стала Степанидой. Но так её тоже не называл никто.
– На венике? Как ведьма, что ли? – сказала Сорок Разбойников.
– Не как ведьма, – обиделся я. – Она хорошо ездиит.
– Я же говорила вам, Анастасия Леонидовна, – сказала Сорок Разбойников. – Шизофреничка. Нетяжёлая форма. Проявляется редко.
Слово «шизофреничка» Антону понравилось, в нём было много хороших звуков. Слова, которые ему нравились, он оставлял на вечер и шептал их, уже лёжа под одеялом. «Шизо-френичка», – повторил он, засыпая.
На другой день Антон, как обычно, сообщил новое слово Гагину. Васька написал на доске: «Шезохреничка». Клавдия Петровна вошла в класс, прочитала, села за свой стол и заплакала. Потом вышла. В класс она не входила больше никогда. Как рассказывал потом Атист Крышевич, преподаватель немецкого и английского, в учительской Клавдия Петровна долго рыдала, сообразительная Сорок Разбойников вызвала не врача, а сразу санитаров из местной психбольницы, а кто туда попадал – оставь надежду входящий. Через месяц её выписали с диагнозом «элементы депрессивного психоза», в школу обратно не взяли, а в пенсионном возрасте она состояла уже давно. Любили её все – и ученики, и родители. Первоклассники у неё раньше, чем у других, начинали читать – даже переростки из оккупированных областей, которые за парту садились в девять, в десять лет. Её ученики до сих пор поражают всех своей гротовской каллиграфией. Никто никогда не замечал каких-либо отклонений в её психике. Депрессивный психоз проявлялся только – в катании на венике с ледяной горки. Факт этот фигурировал как единственный и в её истории болезни.
10. Кооперативный конь Мальчик, или Черепаха Наполеона
У Банной Горки понуро стояла серая лошадь, без уздечки, непривязанная. Рядом курил мужик.
– Твоя, что ли? – спросил Антон.
– Ну.
– А неподкованная почему?
– Банная. Больная. Забивать надо, а на бойне не берут.
– Что ж будешь делать?
– А пускай стоит. Можа, сама околеет. Два раза уже выгонял с конного двора – приходит обратно. Двадцать девять лет коню. Куда уж.
Двадцать девять! Именно столько лет было Мальчику, главной и единственной тягловой силе кооператива «Будённовец», организованного семью преподавателями Чебачинского горно-металлургического техникума в сорок втором году, когда им полгода не выдавали жалованья и они только расписывались, что добровольно перечисляют его в фонд обороны.
Названье придумал парторг Исаканов:
– Так будет политически грамотно. Никого не удивит. И намёк на коня.
Конь, которого приобрели кооператоры, был комиссованный, со съеденными зубами 29-летний мерин, худогривый, однако хвостатый и редкой масти: спереди мухортый, а дальше чалый, но в пежинах, отец говорил, что в яблоках, но было ясно – чтобы поднять его лошадиный престиж. «Конь – огонь, – специально для Антона добавлял он, – четыре ноги, пятое брюхо, едет хоть мокро, хоть сухо».
Ирония названия кооператива заключалась в том, что Мальчик был никоим образом не будённовец, а совсем даже колчаковец, мобилизованный в Омске и исправно служивший в Белой армии, в перипетиях гражданской войны оказавшийся от Омска в двухстах километрах – в Чебачинске. Старый конь, не страшившийся ни выстрелов, ни огня костра, единственно чего боялся – это красных знамён и людей в красноармейской форме, при виде их шарахался и мог понести. А так как по улицам тихого и глухого Чебачинска почему-то всё время с пением и посвистом маршировали красноармейцы, то недостаток оказался существенным. К счастью, вскоре он самоликвидировался: ввели новые знаки отличия, и Мальчик не только перестал шарахаться от воинских колонн, но начал проявлять к ним острый интерес и всё время норовил подъехать поближе к командиру в золотых погонах, сминая при этом строй. Дорогу кооперативный конь запоминал с первого раза лучше опытного шофёра, и даже завуч Канцевич благополучно довозил до дому сено или картошку.
По этому поводу дед рассказывал про лошадь Липку, на которой он ездил в бытность директором совхоза «Весёлые Терны» на Украине в двадцатых годах, – кобылу необыкновенной резвости, орловской породы (следовал рассказ о графе Орлове и его конзаводах), серой в яблоках, а хвост и грива белые. Утром совхозный конюх выпускал её, уже осёдланную, и она сама прибегала к дому, а когда дед выходил, клала ему голову на плечо. (Когда дед про это говорил, мне показалось, что у него блеснули слёзы – этого я не видел более ни разу, даже когда он рассказывал о разорении их имения, о смерти брата в харьковской тюрьме, о расстреле другого.) Приехав на вокзал, дед Липку тоже отпускал: «Липка, домой!» И Липка, подождав, пока тронется поезд, неторопливо бежала домой иноходью.
– Как мустанг-иноходец? – уточнял Антон.
– Именно. Шаг у нее был широкий, красивый, мерный. Ходила она только под седлом, верховых лошадей у нас никогда не запрягали.
Мальчик являлся единственным имуществом кооператива и его основой. «Транспорт – наше всё», – говорил отец. Или, привезя на Мальчике очередной воз: «Солома решает всё».
Жил Мальчик у Саввиных – Стремоуховых. Остальные члены «Будённовца» не знали не только как ухаживать за конём, но и как его запрягать. Профессор Резенкампф, ссыльный ленинградский немец, собираясь воспользоваться тягловым средством кооператива, вынимал кожаную записную книжку с золотым обрезом, укреплял её на воротах и начинал запрягать, справляясь с чертёжиком, который нарисовал со слов отца. И делал всё вполне успешно: под чересседельник не забывал подкладывать потник (сушившийся у печки, отчего в комнате всегда пахло лошадью), даже перед затягиваньем подпруги заправски пихал коня кулаком в брюхо, чтобы тот выпустил воздух, – пока не доходило до хомута. Хомут в своём рабочем положении, то есть клещевиной вниз, не налезает на конскую голову. Его надо перевернуть и, надев, уже на шее, перевернуть обратно, после чего клещевину можно стягивать супонью. Отец, обычно присутствовавший при процессе как консультант, молча переворачивал хомут, надевал и снова переворачивал. «Думкопф!» – бил себя по лбу профессор и делал помету в книжке; в следующий раз всё повторялось.