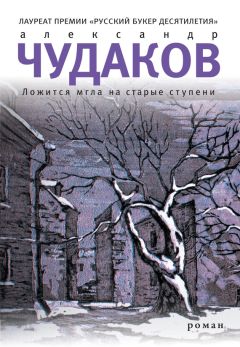В 150-летнюю годовщину смерти Наполеона прошёл слух, что черепаха ещё жива и по-прежнему выползает, совершенно ослепшая, с головою, покрывшейся какой-то белой плесенью. В самый день Антон читал дочке Даше: «Чудесный жребий совершился: Угас великий человек, В неволе мрачной закатился Наполеона грозный век» и рассказывал ей про черепаху императора; Даша слушала и моргала своими глазищами.
Когда в отделе академического института, где работал Антон, обсуждалась его плановая работа «Из истории бонапартизма в России» и профессор Молчанов сказал, что отмеченные коллегами недостатки естественны, поскольку автор занимается этой обширной темой слишком недавно, автор в запальчивости сказал: давно – двадцать лет.
– То есть, если не ошибаюсь, с тринадцати лет? – тонко улыбнулся профессор.
– И даже раньше!
Антона послали за хворостом для костра – надо было накормить гостя. Под это дело Антон решил заглянуть на позавчерашний покос, где он напримечал много земляники. На поляне почему-то стояла телега, запряжённая низкорослой мохнатой лошадкой, и какой-то мужик, торопясь, навиливал сено – их сено! Антон, пятясь и ступая, как Кожаный Чулок, скрылся за кустами и опрометью помчался к шалашу; через минуту отец уже бежал впереди Антона, держа наперевес вилы, как участник крестьянского восстания Болотникова, – и успел схватить под уздцы отъезжающую лошадь. Мужик спрыгнул с воза тоже с вилами и попытался пырнуть ими отца – тот отбил. Мужик сделал ещё выпад – отец отбил с лязгом. Антон раскрыв рот смотрел на это фехтование. Отец кинул на него короткий взгляд (Антон долго его вспоминал) и закричал мощно: «Трофимыч! Григорьич!» Услыхав, что есть ещё Трофимыч с Григорьичем, мужик бросил вилы, отскочил за куст и, быстро состроив удивлённое лицо, забормотал:
– Дак я как? Смотрю – сенцо ничьё, можа, думаю, не вывезли, дак я что…
Прибежал Николай Трофимыч, за ним не торопясь шёл Борис Григорьич. Мужика бить не стали, но заставили отвезти ворованное сено к главному стогу, да перевезти туда же ещё две копёшки. С транспортом было туго, Мальчика вспоминали часто.
Но и когда Мальчик ещё существовал, сена на целую зиму всё равно не хватало, особенно когда на постое находилась корова профессора Резенкампфа; докупали на базаре.
Подвозили сено исключительно казахи. Косить они не умели и не любили, нанимали мужиков из ссыльно-кулацких семей, могучих косарей. Но казахам, хотя они тоже были колхозниками, разрешалось держать индивидуальных лошадей, то есть иметь транспорт, русские же вывозили сено на коровах, на себе (в двуколки впрягались всею семьёй), ощущая это как глубокую несправедливость; межнациональных отношений это не улучшало. Гройдо в бытность свою большим начальником по национальным вопросам стоял у истоков подобных указов и пробовал объяснять, что власть поступила разумно, исходя из национальных привычек степного народа, – его чуть не побили.
– А можа у меня тоже национальные привычки – не мене ихих! – наскакивал грудью нервный Петя-партизан и шарил рукою у пояса. – У мово бати целый косяк был. Да не этих косматых – настоящих коней! А я не могу себе кобылу завесть – к доктору съездить!
Неравенство было ликвидировано при Хрущёве, когда коней казахам велели сдать. Аксакалы, с трудом спешившись на исполкомовском дворе, обнимали своих низкорослых мохнатых лошадок и плакали. Лошадей по сходням загоняли в кузовы грузовиков и куда-то отправляли.
Однажды дед выменял у Сабита целый воз сена на костяного божка, выкопанного на огороде. Этот божок, рассказывал Васька, друживший с сыном Сабита Карбеком, стоял потом у казахов на особой полочке и рот ему мазали жиром, а когда резали барана – кровью. Гройдо очень удивлялся: «А я и не знал, что у казахов до сих пор сохранились элементы язычества, считал – мусульмане».
Подряжались и в колхоз, скирдовать – копнильщики с заскирдованного сена получали «нэпманскую десятину». Антон тоже скирдовал. Навильники он брал не меньшие, чем мужики, но уставал быстрее, от напряженья болели пузные мускулы, как выражался Васька Гагин. Татарин Ахмет, учившийся ещё до войны у мамы в начальной школе и жалевший Антона, переводил его на конные грабли – сгребать подсохшее сено в рядках. Работа нетяжёлая, надо только, сидя на удобном, тёплом от солнца дырчатом железном сидении, вовремя подымать и отпускать рычагом огромные серповидные зубья граблей, опытный конь сам заворачивал в конце рядка. Но эта работа быстро кончалась, приходилось опять копнить. Особенно тяжело подавать на стог уже почти готовый, высокий. Во время перекуров Антон с чувством вместе со всеми пел: «Имел бы я стогометатель, он за меня б стоги метал. И ни хрена бы я не делал, а только б сено получал».
Зимой отец ездил на Мальчике в дальний колхоз, в Успено-Юрьевку, там всегда под снег уходило невывезенное сено, которое колхоз задешево продавал всем, кто отваживался его откапывать и через Степь, где не было езжалой дороги, перевозить в тридцатиградусный мороз с ветром.
В одну зиму снега было особенно много, и отец припозднился. Ехал в уютной сенной норе, наслаждаясь летним ароматом разнотравья. После набойливых городских, степная дорога, наезженная в самую меру, была ровна, покойна. Мальчик бежал, как всегда, впритруску, неспешной побежкой. Вдруг сзади в темноте появились жёлтые огоньки. Волки! Отец протянул Мальчика кнутом, что делал редко, тот наддал, но воз был тяжёл, огоньки приближались. Отец зажёг большую охапку сена и бросил на дорогу. Волки переждали, но потом опять стали нагонять. Отец зажёг ещё сена, и ещё. Ветер, дувший сзади, относил пылающие клочья иногда прямо в морду Мальчику, но боевой конь и ухом не вёл, а только прибавлял ходу, сколько было в его силах; отец знал, что их у старика немного. Сено быстро убывало; отец начал экономить, но маленькие клоки прогорали мгновенно или вообще гасли в снегу. Тогда можно было увидеть, что волки совсем близко; некоторые пытались забежать вперёд, обогнав сани по целине, однако мартовский снег был слишком глубок и рыхл. Всё равно дело было дрянь. Отец приготовил вилы. Но тут показались огни Каменного карьера. Волки отстали.
На Мальчике из роддома доставили маму вместе с новорождённой сестрой Наташей. Отец клялся, что Мальчик, увидев свёрток с младенцем, заулыбался и вёз телегу очень осторожно по глубокой – по ступицу – осенней грязи. Везя гроб одного из членов «Будённовца», Мальчик двигался, скорбно опустив голову, и переступал копытами тихо и деликатно.
Антона это нисколько не удивляло – от коня он ожидал и не такого. Вальке Шелепову он рассказывал, что когда Мальчик служил в Первой конной Будённого, то вместе со своим хозяином попал в плен. Хозяин ночью лежал связанный, а Мальчик пасся рядом. Красноармеец тихо его позвал, конь подошёл, всё понял, поднял хозяина зубами за верёвку и ускакал с ним к своим. Сюжет Антон не выдумал, а только слегка подновил – подобная история случилась с арабским скакуном в Африке во время англо-бурской войны и вполне могла произойти и с таким умным конём, как Мальчик. Васька Гагин, узнав, что есть такая замечательная история, попросил рассказать её и ему, что Антон и осуществил, но опрометчиво сделал это в присутствии Вальки – опрометчиво потому, что на этот раз Мальчик служил у белых и в плен попадал к красным; произошёл конфуз. Антон, впрочем, был не сильно виноват: в общих разговорах кооператоров подчёркивался будённовский характер биографии Мальчика, но наедине отец не раз называл его колчаковской мордой. В этих красных и белых, как в купцах и колхозниках, Антон долго путался. Будённовцы были лихие кавалеристы, у них к тому же были тачанки-ростовчанки, но Сумбаев как-то, выпив, сказал, что лучшая кавалерия была у Шкуро, а потом выяснилось, что это белый генерал; Куркун рассказывал про каких-то дроздовцев, которые ходили в героический ледовый поход и тоже оказались белыми; с Махно было совсем неясно из-за его лозунга «Бей белых докрасна, а красных добела», да и тачанки изобрёл он; воевала в Гражданскую ещё какая-то Вторая конная Миронова, про которую вообще никто ничего не знал, кроме отца Вальки Шелепова, который в ней служил и говорил под большим секретом, что она-то и была самая главная.
Однажды летом, когда Мальчика выпустили попастись перед воротами на свежей после дождя травке-конотопке, он исчез. Уйти он не мог – не тот конь. Стало ясно: лошадь украли. Срочно собрали военный совет. Первое слово, как полагалось, дали самому младшему. Антон, встав, сказал, что изучил следы: трава ощипана больше слева от ворот, значит нашего Мальчика увели к Озеру, а там на большой лодке переправили на Зелёный остров, где и скрывают среди густых ёлок, они всегда так делают: под навесами ветвей привязали всех коней. Антона, как всегда, внимательно выслушали, но на Озеро почему-то не пошли: Тамара была отправлена к пармельнице, отец пошёл в Копай-город к чеченцам, дед – на казахскую улицу. Он и нашёл Мальчика. Конь стоял перед саманной мазанкой, привязанный к телеге и так укрытый какой-то рваниной, что сначала дед прошёл мимо, но, оглянувшись, увидел, что конь поворачивает в его сторону голову, полуприкрытую попоною. Дед вернулся и, приподняв другую попону, на забедре увидел тавро: колчаковский трилистник. Он сорвал с коня тряпки, но тут из воротец выскочил молодой высокий казах. Тогда дед взялся левой рукою за тележное колесо и телегу перевернул. Казах нашёл это убедительным и ретировался, а дед взял Мальчика за новый недоуздок (трофей!) и привёл домой.