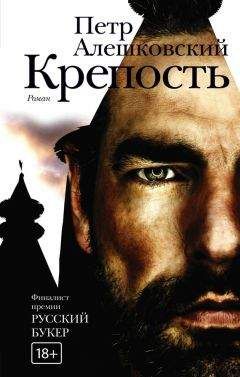Ознакомительная версия.
Каллистов развернул дело правильно, но на взлете карьеры погиб в автомобильной катастрофе. Мальцов работал у него научным консультантом, потом замом по научной части, счастливо и упорно исследовал город, писал статейки и отчеты, ездил на конференции и в ус не дул. Женился, пожил пять скучных лет с добродушной женой, стряпавшей диссертацию о крюковом пении, но забывавшей сварить макароны, детей не завел, развелся по обоюдному согласию и об этом опыте жизни забыл.
Маничкина поставили не без протекции Мальцова. После гибели Каллистова его самого́ настойчиво тянули в директоры, но он был убежден: ученый не должен занимать административные посты. Мальцов собирал материалы к докторской об отношениях Золотой Орды и Руси, подписывать сметы и отвечать за бюджетные деньги не умел и учиться этому не собирался. Он тогда решительно отказался от директорского кресла и числился первым заместителем по науке и руководителем археологической экспедиции. Вчера Маничкин уволил Мальцова и уничтожил экспедицию.
Оба удара были подлые и оба смертельные.
– Видишь ли, – говорил Мальцов, беседуя с бутылкой, – оба удара смертельные, а я пока еще жив. Странно.
Прикончив первую, он свернул голову второй. Радости водка не приносила, только тело обмякло, будто утратило держащий его скелет, и в голове заклубилось нечто, как бывает при решении логической задачи. Он чувствовал священный трепет, словно вот-вот уловит пока еще недосягаемый высший смысл. Мозг взвешивал аргументы строго и точно, отбирал ходы, как в шахматном поединке, но все они разбивались о наглую, крепкую защиту противника, и Мальцов никак не мог найти брешь. Мысль, устав спотыкаться, ускользала, и его бесило, что не удается решить мучившую его жизненно важную задачу. Наконец он потерял все связи, что поначалу так красиво выстраивались в голове. Голова вдруг опустела и, глупая и бесполезная, только оскорбляла его тем, что еще как-то и зачем-то сидела на поникших плечах. В окно врывался мертвенный свет луны, нырявшей в низких тучах, холодные тени скользили по стенам, по столу, по дивану. Мальцов почувствовал озноб, потянулся к одеялу, но понял, что и оно не спасет.
Холод продирал до костей. Хотя на дворе стоял поздний август, термометр за окном показывал плюс семь. Холод сочился из стен. Мальцов на мгновение представил себя замурованным в мокром заплесневелом склепе, где в темных углах расселись повылезавшие из скользких нор жирные зеленые жабы. Положив облепленные бородавками головы на надутые груди, они изредка моргали глазками, презирающими белый свет и чистый воздух, следили за ним, мающимся в запечатанном заклятьем подземелье, как за обреченным попасть на их липкий язык мотыльком. Сидели и ждали беззвучно, ждали нехорошего, что всегда случается там, где из кирпичных пор проступает солоноватая ржавая верховая вода, где беззвучно пересекают прокисшую черноту кожистые крылья нетопырей, где тишина пропитана едким грибком и давит, как тяжелая глина на гробовую доску, и того гляди продавит несортовую колючую сосну и погребет навечно, отрежет даже малейшую возможность выскрестись отсюда, залепит глаза, забьет рот, погрузит в невыносимое небытие, в мокрое безмолвие железистого болота, на котором построены все наши старые северные города.
Он тряхнул головой, откинул с глаз потную челку, как старый конь у водопоя, атакованный тучей оводов, и прогнал адское наваждение. В Твери у него была маленькая двухкомнатная квартира, в которой они какое-то время жили с Ниной и умирающей матерью. Он продал ее, когда расписался с Ниной, и решил дожить в родном городе до конца. И только тут ощутил, что у него есть свой дом. Наследственная хрущевская халупа в Твери всегда казалась ему чуждой, он не воспринимал ее как фамильное гнездо. Здесь же всё начиналось правильно, стала выстраиваться семья, правда, дом оказался не простым – с историей. Двухэтажный, длинный, он стоял на взгорке в тянутой перспективе таких же желто-белых строений екатерининской застройки по берегу реки. Могучий, аки крепостная стена, за века дом накопил в себе тугую энергию, распиравшую его изнутри. От нее стены кое-где пошли трещинами, их спешно замазывали цементом, да раз в десять лет город латал железную кровлю. И вот на́ тебе, теперь зачем-то и дом ополчился на Мальцова. Проверял, что ли, на прочность?
Метровые стены впитали недельный дождь, всосали из фундамента речные туманы и теперь отдавали холод и сырость. С ними в жилое пространство из большемерного шамотного кирпича вплывали сновидения и страхи, рожденные в воспаленных головах прежних хозяев. Лампочка под потолком незамедлительно реагировала на потусторонние явления – начинала потрескивать и светила тускло, вполнакала, дым из печки с громким выдохом выбивало сквозь заслонку в комнату. Сосед за стеной по-своему разбирался с чертовщиной, начинал громко стучать в чугунную сковороду овечьими ножницами, щелкал ими хищно, стриг воздух и орал что есть мочи: «У-у, гребаный Чубай, опять электричество тыришь! Я тебя! Кыш, прощелыга, чур-чур, я свой, не замай меня!» Если и эти заклятия не помогали, выбегал в коридор в одних подштанниках и мел березовым голиком по стенам, тыкал в разные стороны: «Я вас, шушера, замету, за Бел-окиян, за Латырь-камень!» Этот немощный дедок, бывший истопник котельной, был потомственным бесогоном. Бурашевская клиника душевных болезней пролечила его циклодолом и отступилась, дед был признан неизлечимым, но неопасным.
Тут извечно проживали такие вот истопники, мелкие лавочники, посадские кожемяки, выжиги, портные, брадобреи, костоправы, ломовые извозчики и плотогоны. Мужики побогаче круглый год ходили в смазных яловых сапогах, густым запахом дегтя с примесью едкой кошачьей мочи пахло в рундуках-подъездах даже в лютые морозы. Нищета фистуляла утиными шажками в кожаных поршнях, от ношения которых пятки растаптывались вширь, как неподкованные копыта, а вросшие в дикое мясо ногти толщиной в пятак люди приучались терпеть до последнего, пока хромота не заставляла расщедриться на полушку для мучителя-лекаря, что вырывал ногти в темной каморке на базаре с громким хеканьем малыми копытными щипцами. Да и руки у тутошних были одинаковые: ладонь жестче наждака, с потрескавшейся задубевшей кожей, на тыльной стороне не пропадающие даже по теплу цыпки. Эти окаянные жители, казалось, вылезали на божий свет кто с топориком в пухлой ангельской ручке, кто с засапожным свинорезом, а кто и с сыромятным тяжелым кнутом палача. Они не брили бород, подпоясывали домотканые рубахи льняной бечевкой, чтобы не пробралась к сердцу нечистая сила, носили на гайтане медный крест с ликом Спасителя, что не очень-то уберегал от смертных грехов, на которые их толкала здешняя жизнь. Многие попали за нехорошие дела в застенок и потом сгинули в холодной Сибири, навсегда занесенные снегами. Их жёны – ткачихи-надомницы, трактирные кухарки, златошвеи, сборщицы хмеля, дворничихи, повитухи и презренные служанки, коих пользуют в хвост и в гриву, блядешки и набожные богомолки в чистых темных сарафанах – по утрам и в предночье копошились у пышущих и вечно чадящих печей. Женщин этих роднил дом – многоквартирное общежитие, в котором жили, как пчёлы в улье, только без пчелиной королевы, все одной судьбой, одним пошибом. Почти все они в ранней юности глупо и безрадостно теряли девственность, а после двадцати пяти – красоту и привлекательность, все погрязли в сплетнях, пересудах и заботах о вечно голодных необстиранных детишках, стреляющих на матерей из темных закутков острыми блестящими глазенками, словно выводок мышат из свалявшегося соломенного гнезда. Детки, как и их матери, беспрестанно сопели и кашляли от копоти, от кислой вони жирных котлов и замызганных чугунов с прилипшими к стенкам листами квашеной капусты, от серых обмылков щелочного мыла, сваренного на живодерне, от запахов безденежья и безнадеги, что никогда не покидали этих метровых кирпичных стен. Рубленых бараньих котлеток с мясом дикой утки, паюсной икры во льду и макарон с пармезаном здесь не пробовали никогда, срывались в сердцах на капризничающих малышей, отворачивающих щербатые рты от тарелки с блестящим, только что отсикнутым творогом: «Щё, блятенята, каклеток вам накласть или мирмизану подасть?» На праздники тут варили студень из огромных свиных голов и пекли знатные пироги с капустой, яйцом и зеленым луком, рыбники с лещами и высоченные курники с коричневатой крышкой, украшенной толстыми вензелями.
По ночам хозяйки и их мужья тяжело дышали от морока, колыхавшегося посреди комнаты живым, крепко сотканным парусиновым покрывалом, как едкий угарный дым в черной бане, икали, хрюкали, стонали и взвизгивали во сне от наплывающих страхов. Страхи вдавливали их в пролежанные и потные топчаны, чьи пружинные утробы начинали сами собой вдруг гулить, трещать и звякать, а то и горготать бесовскими бесстыдными голосами. Что ни ночь домовые громыхали на кухнях тяжелыми ухватами и загнутыми глаголем кочережками и валили их с грохотом на пол. Потомственные квартировладельцы и нищеброды-съемщики просыпались на миг, запивали полуночный кошмар мутным огуречным рассолом или тошнотворной дрожжевой брагой и вновь проваливались в топкий сон. Поутру, в предрассветной мгле, они, как и вчера и позавчера, принимались разводить огонь в печах, носили коромыслами воду, громыхали ведерной жестью, топали сапожищами, цокали коваными каблучками, шаркали плоской стопой и фыркали зло на подвернувшихся под ноги вальяжных котов. Затем будили сонных ребятишек, любовно расчесывали их свалявшиеся волосики редким гребнем – вошегонкой, легонько целовали в лоб, шептали на ушко ласковую охранительную молитву, поминая троекратно Николу и Пантелеймона-целителя, и, наскоро похлебав постных щей, начинали новый трудовой день, мало чем отличавшийся от отлетевшего.
Ознакомительная версия.