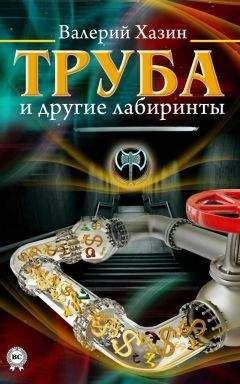Ознакомительная версия.
Лишь глава одного из крупнейших мишарских кланов уверял позже, что тот, кого звали Застраховым, как раз и проживал на Завражной в девятом доме. И якобы были с ним на палубе «Посадницы» не то что друзья или близкие – а просто-напросто соседи по единственному подъезду почти в полном составе – унесенные впоследствии так же, как и он, злополучным взрывом. Однако поверить в такое было трудно, и скептики возражали, говоря, что все это – не более чем речи людские и пересказанное суеверие. Да и можно ли было объяснить, как жители панельной девятиэтажки из спального района оказались среди избранных на закрытом приеме, кто из них попал в кортеж, и почему больше никого из приглашенных не накрыло ужасной волной? Ведь из числа званых на вечер и первые лица города, и выдающиеся члены самых важных собраний, клубов и диаспор – все до единого, исключая ослабленных возлиянием, – поутру появились там, где должны были появиться. Да и ночные пути столичных звезд, просиявших на небосклоне Вольгинска, тоже не претерпели отклонений. На другой день, к вечеру, были все трое замечены на открытии иных, не менее громких, торжеств, в иных, не менее шумных, городах: Саша – в Казани, Даша – в Нижнем Новгороде, Глаша – в Перми.
И только жители дома номер девять по улице Завражной – и тот, кого называли Застраховым, и пришедшие с ним на праздник, и те, кого не было там, – пропали бесследно.
Не осталось от них, по слову пословицы, ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей.
И это всё, что можно сказать.
А если кто станет расспрашивать дальше – Бог весть, откуда ждать им ответа[160], ибо не слыхивали в Вольгинске, чтобы кому-нибудь поведали больше.
Ибо всякому, кто возьмется вспоминать всё, что было передано, тут же придется давать имена людям и разным местностям, которые там были. Но и по истечении долгого времени, и когда время замедлит все течения, никто не осмелится усомниться, что те, о ком было рассказано, и те, кто носил эти имена – это одни и те же.
Авторское право. Вместо эпилога
Главный врач Приволжского межрегионального реабилитационно-психиатрического центра имени Л.С. Выготского[161], профессор Кузаримов-Галевин[162] свидетельствует:
«Вы хотите знать, кто является автором текста, именуемого «Труба»? Трудно сказать.
То есть, с точки зрения издателя, публикатора, библиографа вопрос вполне естественный и резонный. И отвечать на него, казалось бы, следует коротко и ясно – одним именем.
А между тем вопрос – не из легких. И вот что интересно: задавая его по сто раз на дню, понимают ли профессиональные издатели, о чем, собственно, спрашивают?
Ну, например, кто взялся бы всерьез установить, скажем, авторство сократических диалогов Платона[163], или – попросту – ответить, что в них сочинено, а что услышано и передано, кому передано, и главное – кем передано? Можно ли представить, в конце концов, чтобы отцом не одной, а трёх литератур был тщеславный вельможа и политический изменник по имени Снорри Стурлусон[164], этот слагатель саг, конунг кеннингов и кладохранитель скальдов? Кто в состоянии сказать что-нибудь вразумительное о создателе какого-нибудь «Хазарского словаря»[165], не говоря уже о сочинениях более древних и тёмных?
Впрочем, вас, судя по всему, не слишком интересуют литературно-философские дали, а больше заботят аспекты практические: авторское право, идентичность физического лица, дееспособность, и прочее. И хотя рискованно даже предполагать, каким образом попала к вам названная рукопись, – лучше, наверное, не утруждаться коммерческой подоплекой, – во всяком случае, до тех пор, пока она представляется сомнительной…
Словом, вы хотите знать, кто автор?
Конечно, слегка упрощая дело, можно было бы ответить сразу и без обиняков: автором является пациент нашей клиники.
Но сказать так – по сути, ничего не сказать, поскольку и тут, видите ли, неизбежны определенные проблемы, в том числе и с именами…
Итак: человек, которого, в общем и целом, можно признать создателем упомянутого текста, поступил в клинику около пяти лет назад, поздней весной – был доставлен по вызову из двадцать восьмого отделения милиции города Вольгинска. Ни документов, ни каких-либо идентифицирующих предметов при себе не имел, но не выпускал из рук роскошное кашне и долгополое пальто европейского покроя, вроде бы, по теплу, неуместные. И костюм его, и ботинки тонкой кожи, пусть и перепачканные, не оставляли ни малейших сомнений в отношении стоимости, стиля, класса. Гражданин был снят милицией с городского моста, откуда якобы собирался броситься в реку. При задержании сопротивления не оказывал, не проявлял ни агрессии, ни признаков опьянения, никакой, а, напротив, демонстрировал всяческую готовность подчиняться. В отделении был поначалу принят за глухонемого, но когда попробовали общаться с ним записками – он лишь заслонял глаза ладонью, отворачивался и плакал. Ни установить личность задержанного, ни вступить с ним в контакт тем или иным способом не удалось – стало ясно, что он невменяем… И лишь один младший, точнее – совсем молоденький лейтенант утверждал (правда, без протокола), что попытки суицида не было: гражданина стащили с мостовых перил, где он просто сидел, покачивая ногами, и улыбался, любуясь вольготным бегом волжских волн. И от печальной участи в участке спасло его только то, что не было при нем ни денег, ни ценностей, ни ключей, но кто-то из начальства почему-то заподозрил в нем иностранца. И, по-видимому, это же, по завершении соответствующих процедур, уберегло его от попадания к коновалам из городской психиатрической больницы…
В клинике у пациента диагностировали экспрессивную афазию, а позднее – истерическую псевдоафазию, или потерю речи. Потом возникла гипотеза о расстройстве памяти – ретроградной амнезии, однако очень скоро диагноз был скорректирован: осложненная форма диссоциативной амнезии, состояние психогенного бегства, а попросту – полная утрата идентичности.
Чтобы представить полную картину, не вдаваясь в медицинские нюансы, достаточно вспомнить пару похожих примеров – хотя бы тех, о которых довольно долго трубила пресса.
Скажем, нашумевшая история так называемого Пианиста[166]. Неизвестный, обнаруженный пару лет назад на улице в графстве Кент, не говорил и не реагировал ни на один язык, но нарисовал полицейским шведский крест и пианино, а когда его подвели к инструменту, сел и заиграл, как профессионал. Ни одно из предположений о личности таинственного виртуоза с тех пор не подтвердилось. А специалисты между тем уверяют, что он исполнял не только Баха, Чайковского и другую популярную классику, но и, видимо, музыку собственного сочинения. Судя по публикациям, исполняет и теперь. Но, согласитесь, нечто зловещее слышится в том, что ни от личности, ни от памяти, ни от имени пианиста не остаётся и, наверное, не останется уже ничего, кроме музыки.
Или взять хотя бы недавний «казус Задойницына»[167] в Красноярском крае – на почве родной, российской – пожалуй, самый громкий: внезапное возвращение секретного ученого после такого же внезапного исчезновения и полуторагодового отсутствия. Авторитетный химик Задойницын занимался, как известно, разработкой оружейного плутония, выращиванием искусственных изумрудов, производством сверхчистых металлов в Медногороске. Однажды уехал в Красноярск за машиной и пропал. Спустя восемнадцать месяцев пришел ночью домой, без документов. Как миновал КПП закрытого города Медногорска, ни милиция, ни спецслужбы объяснить не смогли. Где был и что делал, сам Задойницын помнил смутно, химию забыл совершенно, зато наизусть цитировал тысячи стихов, вплоть до речевого недержания. И счастье еще, что сумел вернуться, и был опознан. Или правильней будет сказать, что сам он вернулся, а память и речь его заблудились где-то на просторах Сибири. И кто ответит теперь, что делать с его авторским правом?
Впрочем, всё это – не более чем аналогии, отдаленные, приблизительные, намекающие. Наш случай запутанней, темнее, что ли.
Так вот, пациент, о котором идет речь, никаким иностранцем, разумеется, не был. Скорее, подобно монаху-трапписту[168], он был, как сказали бы раньше, молчеват или несловесен – словно бы покорился обету или тому, кто лишил его дара речи, но речь русскую понимал прекрасно и реагировал вполне адекватно: почти никому не доставлял беспокойства, был послушен, аккуратен и тих. А если кому-то и казалось порой, будто он намерен что-то произнести, – чаще всего это оказывалось ошибкой: из уст его изливалось лишь волнообразное мычание.
Все стандартные попытки установить личность его оказались безрезультатными, а больные, со свойственным им колким юмором, немедленно прозвали его Заикой.
И вот он – тот, кого звали Заикой, – и оказался со временем автором текста, именуемого «Труба».
Нетрудно догадаться, однако, что текста он не писал. Болезнь его, помимо прочего, была осложнена редкой формой графофобии – боязни печатного и письменного слова. Заика был не способен не то, что черкнуть пару строк, но физически не переносил даже какого-нибудь невинного клочка с текстом или вывески на двери. И единственным способом защиты для него стало постоянное дугообразное уклонение взора, отчего в помещениях он смотрел всегда себе под ноги, а на прогулках в парке – поверх деревьев. Конечно, это осложняло работу врачей: ведь если случалось ему увидеть кого-нибудь пишущего, реакция его организма была мгновенной и скоротечной: спазмы в горле, обильное потоотделение, судороги и рвота, а иногда – кратковременные приступы каталепсии – он замирал, словно в обмороке, а тело приобретало характерную восковую гибкость.
Ознакомительная версия.