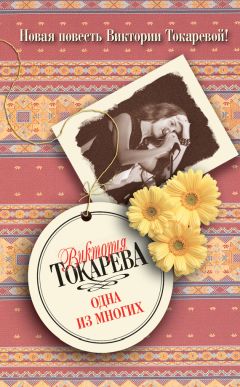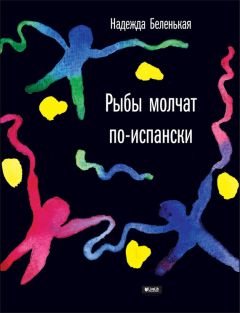И все же, и все же…
Через неделю Саша вошел в раскрытый лифт. Там стояла Мара. Если бы знал, что она внутри, пошел бы пешком на шестнадцатый этаж. Поднимались вместе и молча. Саша старался смотреть мимо, а Мара смотрела в упор. Искала его глазами. Потом спросила, тоже в упор:
– Так бывает?
– Значит, бывает, – ответил Саша.
Вот и все.
Через полгода Соша вернулась к Ираклию. Мара не стала доискиваться причин. Она к Саше не вернулась. Да он и не звал. Он надеялся встретить женщину, которая соединит воедино плоть и дух, когда конь и всадник будут думать одинаково и двигаться в одном направлении.
Для Мары прекратился челночный образ жизни. Она осела, притихла возле Димычки, говорила всем, что ей очень хорошо. Что семья – это лаборатория на прочность, а ее дом – ее крепость. Лабораторию придумала сама, а крепость – англичане. Но иногда на ровном месте с Марой в ее крепости случались истерики, она кидала посуду в окно, и Димычка был в ужасе, поскольку чашки и тарелки могли упасть на чью-то голову. Он бежал к телефону и вызывал милицию. Мара панически боялась представителей власти и тут же приводила себя в порядок. Когда приходил милиционер, ему давали двадцать пять рублей, и они расставались ко взаимному удовольствию.
На фоне личных событий граждан протекала общественная жизнь страны.
К власти пришел Никита Сергеевич Хрущев и первым делом отменил Сталина. «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет» оказался тираном и убийцей. Каково это было осознавать…
Мару, равно как и Ритку Носикову, это не касалось. Они были маленькие. Зато оттепель коснулась всем своим весенним дыханием. Напечатали «Один день Ивана Денисовича». Все прочитали и поняли: настали другие времена. Появился новый термин «диссидент» и производные от него: задиссидил, диссида махровая и т. д.
Никита Сергеевич был живой в отличие от прежнего каменного идола. Его можно было не бояться и даже дразнить «кукурузником». Кончилось все тем, что его сняли с работы. Это был первый и пока единственный глава государства, которого убрали при жизни, и он умер своей смертью. Скульптор Эрнст Неизвестный, которого он разругал принародно, сочинил ему памятник, составленный из черного и белого. Света и тени. Трагедии и фарса.
После Хрущева началось время, которое сегодня историки определяют как «полоса застоя». Застой, возможно, наблюдался в политике и в экономике, но в Мариной жизни семидесятые годы – это активный период бури и натиска.
Мара встретила Мырзика. У него были имя, фамилия и занятие – ассистент оператора. Но она называла его Мырзик. Так и осталось.
Мырзик на десять лет моложе Мары. Познакомились на телевидении. Вместе вышли однажды с работы. Мара пожаловалась, что телевидение сжирает все время, не остается на личную жизнь.
– А сколько вам лет? – удивился Мырзик.
– Тридцать семь, – ответила Мара.
– Ну так какая личная жизнь в тридцать семь лет? – искренне удивился Мырзик. – Все. Поезд ушел, и рельсы разобрали.
Мара с удивлением посмотрела на этого командированного идиота, приехавшего из Москвы. А он, в свою очередь, рассматривал Мару своими детдомовскими глазами.
Впоследствии они оба отметили, что этот взгляд решил все.
Была ли это любовь с первого, вернее, со второго взгляда? Все сложнее и проще.
Кончилась ее жизнь на этаже, где Саша, где Димычка. Там она умерла. Оттуда надо было уходить. Куда угодно. Мара даже подумывала: найти стоящего еврея и уехать с ним за синие моря, подальше от дома, от города. Но стоящего не подвернулось. Подвернулся Мырзик. Мара видела, что он молод для нее, жидковат, вообще – Мырзик. Но надо было кончать со старой жизнью.
Когда Мара объявила Димычке о своей любви, Димычка не понял, что она от него хочет.
– Я люблю, – растолковала Мара.
– Ну так и люби. Кто тебе запрещает?
– Я хочу уйти от тебя.
– А зачем?
– Чтобы любить.
– А я что, мешаю?
Мара опустила голову. Ей показалось в эту минуту, что Димычка больше Мырзика. Мырзик хочет ее всю для себя, чтобы больше никому. А Димычка, если он не смог стать для нее всем, согласен был отойти в сторону, оберегать издали. А она, Мара, сталкивала его со своей орбиты. И он боялся не за себя. За нее.
Мара заплакала.
Разговор происходил в кафе. Мырзик находился в этом же кафе, за крайним столиком, как посторонний посетитель. Он следил со своей позиции, чтобы Димычка не увел Мару, чтобы не было никаких накладок. Все окончилось его, Мырзиковой, победой.
Потом он сказал Маре:
– У тебя голова болталась, как у раненой птицы. Мне было тебя очень жалко.
Мара тогда подумала: где это он видел раненую птицу? Небось сам и подбил. Детдомовец.
Мара и Мырзик переехали в Москву. Перебравшись в столицу, Мара вспомнила обо мне, появилась в нашем доме и привела Мырзика. Она повсюду водила его за собой, как подтверждение своей женской власти. Ее награда. Живой знак почета. Мырзик обожал, обожествлял Мару. Все, что она говорила и делала, казалось ему гениальным, единственно возможным. Он как будто забыл на ней свои глаза, смотрел не отрываясь. В свете его любви Мара казалась красивее, ярче, значительнее, чем была на самом деле. Мырзик поставил ее на пьедестал. Она возвысилась надо всеми. Я смотрела на нее снизу вверх и тоже хотела на пьедестал.
У нас с мужем только что родилась дочь, и нам казалось, что за нами стоит самая большая правота и правда жизни. Но во вспышке их счастья моя жизнь, увешанная пеленками, показалась мне обесцвеченной. Я почувствовала: из моей правоты вытащили затычку, как из резиновой игрушки. И правота со свистом стала выходить из меня.
Мы сидели на кухне, пили чай. Мара демонстрировала нам Мырзика.
– Смотрите, рука. – Она захватывала его кисть и протягивала для обозрения.
Рука была как рука, но Мара хохотала, блестя крупными яркими зубами.
– Смотрите, ухо… – Она принималась разгребать его есенинские кудри. Мырзик выдирался. Мара покатывалась со смеху. От них так и веяло счастьем, радостным, светящимся интересом друг к другу. Счастье Мырзика было солнечным, а у Мары – лунным, отраженным. Но все равно счастье.
Внезапно Мара сдернула Мырзика с места, и они засобирались домой. Наш ребенок спал. Мы пошли их проводить.
Мара увела меня вперед и стала уговаривать, чтобы я бросила мужа. Это так хорошо, когда бросаешь мужа. Такое обновление, как будто заново родишься и заново живешь.
Я слушала Мару и думала о своей любви: мы познакомились с мужем в геологической партии, оба были свободны, и все произошло, как само собой разумеющееся. Палатки были на четверых, мы пошли обниматься ночью в тайгу и долго искали место, чтобы не болото и не муравьи. Наконец нашли ровную твердь, постелили плащ, и нас тут же осветили фары грузовика. Оказывается, мы устроились на дороге. Я шастнула, как коза, в кусты и потеряла лифчик. Утром ребята-геологи нашли, но не отдали. И когда я проводила комсомольские собрания, взывая к их комсомольской чести и совести, они коварно с задних рядов показывали мне мой лифчик. Я теряла мысль, краснела, а они именно этого и добивались.
Хорошее было время, но оно ушло. За десять лет наша любовь устала, пообычнела, как бы надела рабочую робу. Но я знала, что не начну новую жизнь, и мое будущее представлялось мне долгим и одинаковым, как степь.
Мы с мужем возвращались молча, как чужие. Наверное, и он думал о том же самом. Наш ребенок проснулся и плакал. И мне показалось, что и он оплакивает мою жизнь.
Вот тебе и Мара. Как свеча: посветила, почадила, накапала воском. А зачем?
Она раскачала во мне тоску по роковым страстям, по горячему дыханию жизни… Но впрочем, дело не во мне, а в ней.
Итак, Мара и Мырзик в Москве. В его однокомнатной квартире, в Бибирево. Бибирево – то ли Москва, то ли Калуга. Одинаковые дома наводили тоску, как дождливое лето.
Мара позвала плотника Гену. Гена обшил лоджию деревом, утеплил стены и потолок, провел паровое отопление. Образовалась еще одна комната, узкая и длинная, как кусок коридора, но все же комната. Мара поставила туда столик, на столик швейную машинку «Зингер», вдоль стены гладильную доску. И вперед… Этот путь ей был знаком и мил. Шила только тем, кто ей нравился внешне и внутренне. Кидалась в дружбу, приближала вплотную, так что листка бумаги не просунуть, а потом так же в одночасье отшивала, ссорилась. У нее была потребность в конфликте. Бесовское начало так и хлестало в ней. Все-таки она была прописана в аду.
Через год Мара обменяла Бибирево на Кутузовский проспект, купила подержанный «Москвич» и японскую фотоаппаратуру «сейка». Аппаратура предназначалась Мырзику. Мара решила сделать из него фотокорреспондента, останавливать мгновения – прекрасные и безобразные в зависимости от того, что надо стране. Горящий грузовик, передовик производства, первый раз в первый класс.
Мара разломала в новой квартире стены, выкроила темную комнату, это была фотолаборатория. Мара помогала Мырзику не только проявлять, но и выбирать сюжеты. Она оказалась талантлива в этой сфере, как и во всех прочих. Мырзика пригласили работать в агентство печати «Новости», пропагандировать советский образ жизни. Мара добилась его выставки, потом добилась, что он со всеми разругался. Мырзика выгнали с работы.