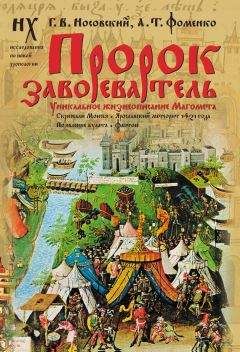Вот твой дом с облезлой штукатуркой, вот несколько стершихся ступенек, вот твоя дверь (улица – выставка огромных шкафов, все разложено по полочкам, сейчас раскроется дверца твоего ящика, и ты будешь пристроен и занесен в карточку под определенным номером)… Спектакль окончен, Руслан Звонков уходит со сцены, надеюсь, человеком взрослым и реально мыслящим.
1.
На фанерной доске новые надписи: «Медведь-лицемер», «При мизере самое главное – отдать ход играющему. Р. Звонков», «Не умеешь – не садись». А так все то же самое. Прокуренная комната. Изобразив на своих лицах энтузиазм («Привет, Барон, хорошо, что пришел»), ребята опять уткнулись в карты.
– Семь первых!
– Семь вторых!
– Семь вторых мои.
– Сольные выступления Звонка!
Торговались Звонок и Медведь. Артист сдавал, а Пятерка сказал «пас», но таким тоном, что на месте играющих Чернышев особенно не зарывался бы. А может, это просто – психологическая война?
Чернышев придвинул к себе «пулю». Так и есть, опять Звонок подзалетает. Последняя надпись явно посвящена ему: «Не умеешь – не садись».
– Игра теряет смысл, – сказал Чернышев. – Может, прерветесь?
– Подожди, Барон, мне надо отыграться, – сказал Звонок.
– Подожди, – сказал Медведь. – Еще полчаса.
Как бы не так. Он знает эти полчаса.
В игре было что-то интригующее. Даже он с интересом наблюдал. И на лицах ребят взрослое, настороженное, незнакомое ему раньше выражение. И эти остроты типа: «Туз, он и в Африке туз». Если карта «не приходила», Мишка говорил: «А любовь девичья не приходит, нет». Понахватались жаргончика.
И так они сидят почти каждый вечер!
Медведь опять сдал карты. Чернышев быстро смешал их.
Теперь все четверо смотрели на него. Обиженно и недоумевающе.
– Хватит, – сказал Чернышев. – Лучше бы на каток ходили. Полезнее. А то как старики. Вам что, делать нечего? Ей-богу, в жизни не видал таких кретинов. Я, между прочим, говорю вполне серьезно. Через несколько лет у вас притупится память и соображать будете не так быстро. А что вы приобретете? Знание некоторых карточных комбинаций? Тебе, например, Звонок, изучить английский было бы гораздо полезнее.
Он явно провоцировал ребят. Лучше ссора, чем продолжение игры. По Мишкиному лицу было видно, что он вот-вот вспылит.
– Как излагает! – сказал Пятерка. – Приятно общнуться с целеустремленным человеком.
Медведь собрал карты и начал тасовать.
– Саша, не надо текстов, – сказал Юрка. – Советские студенты имеют право на культурный отдых. В конституции записано.
Медведь стал сдавать.
– Ну, хоть прервитесь на пять минут! Расскажите, как живете! Я вас целый месяц не видел. Думаете, мне приятно читать вам мораль? – взмолился Чернышев, понимая, что вряд ли он чего-нибудь добьется.
– Живем, как Днепр, – ревем и стонем, – сказал Юрка.
– Семь первых, – сказал Медведь.
– Интеллект против фарта бессилен. Бери, – сказал Пятерка. – Знаешь, Сашка, Медведю дико прет последнее время. В прошлый раз подряд две девятерных сыграл.
– Привет, – сказал Чернышев. – Я пошел. А где Ленька?
– Шляется где-то. На той неделе играл с нами, – сказал Пятерка.
– Исчерпывающая информация. Привет.
– Стой, ребята, – сказал Медведь, – проводим Барона.
– Нет уж, без демонстраций. Валяйте в том же духе. Здорово обогащает.
Все-таки ребята встали, проводили его до двери и даже несколько виновато пожали ему руку. Но Чернышев видел, что они в общем рады его уходу.
Он шел по улице и ругал себя за потерянный вечер. Он пожертвовал библиотекой, он так хотел увидеть ребят, рассказать новости. Знают ли они, чем он сейчас занимается? Хотелось похвастаться, и не удалось. Это его обидело? Нет. В прошлом году они собирались так же часто, как и в школе. Было очень интересно. А сейчас? Тоже мне, товарищи! Картежники!
Наука, его наука, которой он твердо решил посвятить всю свою жизнь, после двух лет обучения на физмате уже была ясна ему в общих контурах. Он кое-что знал и понимал, что Эйнштейном ему не стать, но для того, чтобы достигнуть, например, уровня академика (теоретически это возможно), нужны десятки лет напряженного труда, шестнадцатичасовой рабочий день, плюс ясная голова, плюс определенный талант. Он надеялся, что хоть какая-то одаренность (скромно) у него есть. Одержимость, желание погрызть науку – это у него, во всяком случае, было, и Чернышев считал, что только космическая катастрофа может отвлечь его от намеченной цели.
Наиболее выдающиеся математические открытия делались учеными в возрасте двадцати лет, пока у человека сохраняется свежесть мышления, пока еще хватает наглости сомневаться в незыблемости математических истин: скажем, действительно ли дважды два – четыре? Потом, с годами, уму, обремененному тоннами аксиом, все труднее отходить от них. В дальнейшем человек может блестяще разрабатывать теории, развивать, связывать с практикой, то есть заниматься очень важной и полезной работой, но эти теории в основе, в зерне своем, создавались двадцатилетними. Чернышев знал это и ждал своего часа.
Но в этот вечер его приключения еще не кончились.
Не доходя до Арбатской площади, он встретил девушку («Очень красивая, – отметила та часть его мозга, которая не участвовала в размышлениях о судьбах математики, – повезет же тому, кто на такой женится»), и вдруг эта девушка улыбнулась ему и сказала: «Привет», – а он автоматически ответил, потом удивился, потом оглянулся, потом вспомнил, что это Алла, та самая, в которую был безнадежно влюблен Звонок и с которой одно время встречался Медведь, но так ничего и не добился, и они как-то разбежались в разные стороны. И тут же мозг великого человека – все миллионы нервных клеток дружно отвернулись от любимой науки и разом переключили свою энергию на отношения Аллы с Русланом и Мишкой, и анализ этих отношений оказался весьма интересным.
«По местам! – скомандовал Чернышев. – Только этого мне не хватало! Если каждая такая встреча будет отвлекать меня от мыслей о науке, то академик Колмогоров может спать спокойно».
Относительный порядок был восстановлен, но тут на Чернышева налетел парень и наверняка сбил бы его с ног, если бы наш стремящийся к аскетической жизни математик не занимался в школе боксом да и теперь не ходил на занятия в секцию, ходил, правда, нерегулярно, но достаточно для того, чтобы подтвердить свой второй разряд.
Парень был очень пьян. Он тупо посмотрел на Чернышева, пробормотал что-то неразборчивое, качнулся и хотел продолжать свой замысловатый путь. Но Чернышев тряхнул его:
– Ленька!
В глазах у Леньки появилось осмысленное выражение. Он узнал Чернышева. В течение следующих двадцати минут (ибо Чернышев решил, что это тот самый случай, когда наука может подождать, а товарища надо доставить домой) Ленька нес ахинею про «Арагви», официанта и некую девицу Лиду.
Чернышев погрузил Леньку в лифт и, возвращаясь, рассуждал о странностях жизни, вспоминал ребят, школу, приключения их в школе и после и приходил к выводу, что все у них было хорошо и, вероятно, еще будет неплохо, но вот так начинаются разные судьбы, вот так люди расходятся. Мы клялись в дружбе до гробовой доски, но постепенно придем к тому, что, собравшись и крепко выпив на радостях, не будем знать, о чем говорить, кроме: «А помнишь, Миша?», «А помнишь, Яша?».
2.
По вечерам соседи собирались на кухне. Придя с работы, они готовили суп или разогревали вчерашнюю кашу. На газовых конфорках горячились чайники, кастрюли рассерженно подбрасывали крышки, сковородки плевались раскаленным жиром. Соседи бдительно дежурили каждый у своей посудины и изредка вели разговоры на отвлеченные темы (в основном про телевидение). Даже непосвященный, новый человек мог догадаться, что на кухне существовали две враждебные партии. Правда, баталии с битьем тарелок, руганью и звонками в милицию отошли в далекое прошлое, но подспудно, в якобы невинных репликах, еще тлели огоньки былых страстей. Кухня была выкрашена только наполовину. Дощатый пол имел странную, пеструю окраску. Каждый из жильцов мыл только свои доски, причем в разное время.
Самой колоритной фигурой на кухне была Нина, женщина лет пятидесяти, но с повадками тридцатилетней. Иногда она пела («Филиал Большого театра», – жаловались соседи, впрочем, не очень зло), иногда неделями молчала и, выходя на кухню, так швыряла кастрюлю с водой, что брызги попадали в ближайшие посудины. Но в принципе она была человеком добродушным, наивным, и ей многое прощалось за (кухонный термин) «неумение устроить свою жизнь». Ее единственной страстью были кошки, вернее, один какой-нибудь кот – до тех пор, пока он не пропадал. Самые изысканные блюда готовились для очередного Васьки (масса комментариев среди коммунальной братии по этому поводу).
Юрка, естественно, старался как можно реже бывать на кухне, почти ни с кем не здоровался и мечтал скорее вырваться из этого ада, потому что даже у себя в комнате мать заводила разговоры: «А вот сегодня Нинка…» – и Юрка откладывал учебник и кричал: «Помолчи, понимаешь? Мне эти дрязги неинтересны!»