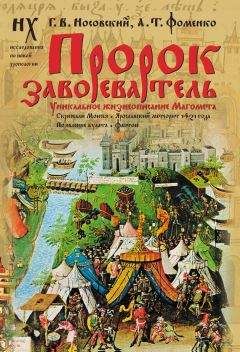Юрка, естественно, старался как можно реже бывать на кухне, почти ни с кем не здоровался и мечтал скорее вырваться из этого ада, потому что даже у себя в комнате мать заводила разговоры: «А вот сегодня Нинка…» – и Юрка откладывал учебник и кричал: «Помолчи, понимаешь? Мне эти дрязги неинтересны!»
Но однажды в училище он вышел «на этюд», надев женский платок, и изобразил, как Нина стоит у плиты, как разговаривает с его матерью, как бегает по двору, клича: «Васенька, Васька, миленький, тепленький, куда спрятался, паршивец проклятый!»
И весь курс (тридцать молодых гениев, знающих все про Станиславского и про Мейерхольда, уверенных, что скоро все они будут играть только Ромео или только Джульетту на сценах самых крупных театров), весь курс лежал в лежку, и сам Евгений Евгеньевич еще долго смеялся и говорил:
– Бутенко-то! Весьма неожиданно!
Некоторое время спустя Юра стал ловить себя на том, что не просто повторяет заинтересовавшие его движения, позы, слова разных людей (страсть передразнивать была у него с детства), а пытается понять, почему этот человек именно так делает.
Инвалид пьет газировку и, ставя стакан на место, предварительно смахивает воду с металлического лотка. Откуда у него этот жест?
Шофер такси отказывается от предложенной сигареты: «Спасибо, освобожден».
У военного спрашивают, какое сегодня число. Он смотрит на часы: «Двадцать пятое, четверг».
Юрку стало интересовать, почему, в силу каких причин человек смотрит на часы, когда спрашивают, какое сегодня число, и отвечает «освобожден», когда предлагают сигарету.
Теоретически он давно знал о «вживании в образ» и еще на приемных экзаменах очень мило изображал, как парень нервничает, когда девушка опаздывает на свидание. Вот это было понятно. А теперь? Эти проклятые «почему?» стали возникать у Бутенко не только при репетиции «отрывка», когда он должен был вжиться в роль Фамусова, а повсеместно, ежедневно, ежечасно.
Он опять вспомнил Нину.
Почему Нина? А где отчество? Кто-нибудь знает его?
«Васенька, миленький, тепленький, дрянь паршивая!» – очень потешно. А мог бы он сам так сказать? Конечно нет. А почему?
Он стал приглядываться, прислушиваться, анализировать.
Когда-то, в древние века, в эту квартиру вселились молодые люди. На кухне было шумно и весело. Жили дружно. Нина пела, а мужчины говорили: «Ай да Нина!» Но годы шли, а она так и осталась одна. Работница на фабрике. Когда-то. Теперь уборщица в одном министерстве. Кажется, все ясно. А понял ли ты ее до конца?
Нет, так мы ничего не добьемся. Давай по-другому. Каждый, даже самый обыкновенный день приносит тебе какую-то радость. Хорошо приняли отрывок, Евгений Евгеньевич изволил побеседовать с тобой полчаса наедине, Маша пришла на свидание, встреча с ребятами, «Спартак» выиграл и прочее, и прочее. И даже если день несчастливый и ничего не получается, все равно ты мечтаешь: когда-нибудь выйду на большую сцену и галерка будет вопить: «Бутенко!»; когда-нибудь Маша перестанет ходить с Эдиком; когда-нибудь кинорежиссер Марк Донской зайдет за кулисы и, ткнув пальцем в мою сторону, скажет: «Вот то, что мне нужно».
Теперь представь. Ты просыпаешься утром. У тебя болит живот, грудь, поясница. И некому пожаловаться. Соседи? Ох, уж эти соседи! Вчера Кабанова мыла пол, так всю грязь в мой угол, а этот длинный сорванец Юрка так и норовит пнуть кота.
Радио, которое будит тебя каждое утро, весело сообщает о пуске новой домны, да еще о каком-то плане, да о том, что где-то кто-то кого-то не то убил, не то съел. А ты тут при чем?
Ты всю жизнь гнешься, гнешься, иногда премию выпишут, а к Новому году замяли. Спасибо, свой угол есть. А то пришлось бы жить с сестрой. Сестра – давно это было – вышла замуж за Петьку-пьяницу. Петька ее бьет (сама виновата), но зато у нее свой дом, и Сережка, сын, в школу ходит. Придешь к ней на праздники – еще ничего, а в будни – масло в буфет прячет. Всегда была жадина. А ты ведь Сережке книжку купила. Нет уж, лучше жить одной. Чтоб куском не попрекали. Сама себе хозяйка.
Так? Примерно так.
А потом Нина идет на работу, где ее ничего нового не ждет. Смог бы ты ругаться каждый день, как уборщица тетя Варя, что, дескать, опять наследили? Нет, никогда. Но это твоя психология. А Нина? Может, у нее свои радости? Поболтала с вахтером, начальник обещал премию в этом квартале. Или бесплатный билет на концерт.
Жизнь без мечты?
А может, она мечтает, что когда-нибудь выйдет на пенсию и тогда можно будет завести двух котов и не простаивать вечерами длинные очереди в магазинах, а ходить днем, когда мало народу. Или еще другая, непонятная тебе мечта – что пьяница Петька прогонит сестру (или сестра – пьяницу Петьку) и сестра будет просить Нину переселиться к ней и перестанет прятать масло подальше в буфет, когда Нина садится за стол.
Несчастная? Да, одиночество, болезни, ссоры с соседями, скоро умрешь – и никто на могилу не придет. И Нина неделями молчит и ставит кастрюльку с треском: «Чтоб им всем, занудам, подавиться!»
А может, для нее счастье, когда в воскресенье все чисто убрано, и есть обед, и Васька, сытый, довольный, мурлыкает. А вечером она смотрит кино, плохую комедию, а ей смешно, она довольна: «Во дают, только зачем эти надписи перед фильмом, еще не знаешь, кто кого, а уже объявляют, время только теряешь, начинали бы сразу, а кому интересно, тот потом прочитает».
И есть одно существо, которое ты можешь и приласкать, и наказать, которому ты начальник и которое без тебя пропадет. Васенька. Он тебя любит (все на крышу норовит, дрянь такая!).
Так? Приблизительно.
А может, она счастлива, когда сидит на профсоюзном собрании как равная со своим многочисленным начальством? Может, она оратор? Требует, чтоб купили полотеры? Или быстро смывается с собрания домой, к Васеньке?
Ты идешь по улице и мечтаешь о девушке, прекрасной незнакомке, которая в любую минуту может выскочить из-за угла. О чем мечтает она, сидя летними душными вечерами на бульваре, одетая в синее выцветшее ситцевое платье, ярко-красный платок и капроновые (единственные) чулки с огромной черной пяткой?
А помнишь, как ты, еще мальчишка, пришел, усталый и голодный, из школы, со второй смены, и родители ушли на весь вечер, а ключ от комнаты ты потерял, и Нина завела тебя к себе, посадила на сундук и накормила жареной картошкой. Кстати, тот бывалый, обитый железом сундук последней модели двадцатых годов до сих пор стоит у нее в комнате на том же месте.
Через несколько месяцев Юрка Бутенко опять приготовил «отрывок». Он назвал его «День одной женщины».
Но на этот раз тридцать молодых гениев, знающих все про Станиславского и про Мейерхольда, не смеялись, а Евгений Евгеньевич сказал: «Однако». И все. А Эдик подошел и сказал: «Старик, я чего-то не понял. Да и вообще, стоит ли, простая баба, таких много». (К тому времени гении на курсе перестали мечтать о Ромео и Джульетте и все хотели играть социальных героев и героинь.)
Маша считала, что Юрка «провалил» отрывок. Правда, потом, когда Евгений Евгеньевич стал говорить в кулуарах, что Бутенко самый способный на курсе, она изменила первоначальное мнение.
3.
Сдан экзамен – снова в путь,
Не дают нам отдохнуть.
Позабудь про фестиваль.
Собирай-ка урожай.
Под этот «целинный вариант» старой туристской песни шел на восток «пятьсот веселый» поезд Энергетического института.
И было – солнце (норовит расплавить голову, никуда не спрячешься, ходишь как ошпаренный), дождь (все промокло: и одежда, и ботинки, и сено, и носки, что вчера, как дурак, стирал, – а в Африке, говорят, жара), картошка, картошка и картошка (где-то на базе в трехстах километрах застряли мясные консервы), пшено, пшено и пшено («кашу пшенную рубали»), тоска (льет, льет и льет, и работать нельзя, и книги все перечитали, и «сорок дней уж за спиной, мама, я хочу домой»), работа по шестнадцать часов, по двадцать четыре часа в сутки (сваливался тут же на солому, не было сил идти в барак, не было сил умыться), и очень здорово (я теперь комбайн могу вести – не веришь? – Колька мне давал, два часа стоял у штурвала, да, брат, там всему научишься, это тебе не дома у холодильника загорать), и очень весело (кругом свои ребята, коммуна, утром будили друг друга, швыряя кеды в кровать), и очень полезно (самостоятельная жизнь, воздух, солнце, иногда вода, закалка организма, и, между прочим, совсем неплохо, когда видишь горы зерна и знаешь, что это ты сам убирал его), но об этом не вспоминают. Не принято.
А последний день, когда дали расчет и ребята наконец отменили «сухой закон», – вот этот день вспоминают часто и охотно.
Миша Медведев был начальником одного из отрядов. Как комсорг группы. Как член факультетского бюро комсомола. Как… А между прочим, почему? Уж если Медведев и был полностью лишен чего-то, так это честолюбия, или, точнее, стремления занимать какие-нибудь официальные должности.