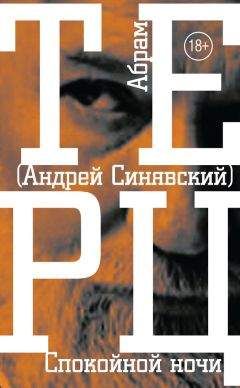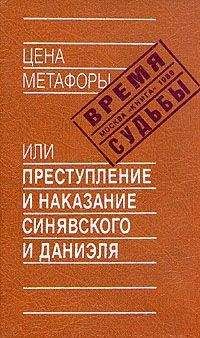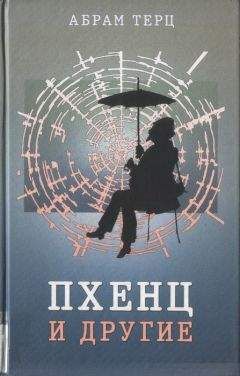– Большое вам спасибо, ясновельможный пан, господин русский писатель! Но только я лично, как человек западный и стреляный уже воробей, советую вам: не верьте вы тому апатриду. Не с дерева прыгал наш храбрый Мурат, а путем канализации уходил от тирании здешнего Гестапо, которое после первого побега, с больнички, под землей, не давало ему спокойно досидеть последние десять лет. Вы бывали на семерке? Ах, вас тогда еще не было? А я так уже был! Вообразите! Деревообделочный цех!.. Реченька… Текет себе и текет, не обращая внимания. Химотбросы выносит с мебельного завода. Так наш Ваничка – что бы вы думали? – склеил себе из пластика подводную лодку – на одного пассажира. С балластом, все как надо, с запасом воздуха, с провиантом. С лопастями из консервной тары. Лежи внутри и крути. Поднимается – опускается, как нежная девушка, – по приказу… Этим же непроницаемым пластиком – только в один слой – мы и сейчас обделываем импортные диваны для соцстран. Ну для Монголии, для Ирана – я знаю?.. И едва красное солнышко закатилось за горизонт, погрузился он, в чем был, в свою глубоководную пирогу, оттолкнулся, закрутил колесами и уплыл бы, может быть, вниз по матушке по Волге наш Ваничка, если б не одно коварное обстоятельство. Преграда в форме буквы «ха»! Ситечко, решето стояло там, сука, неведомо, на дне водоема, – из толстых русских бревен. Пропускающая воду в бассейн и не пропускающая другие, инородные тела. Знал бы он заранее – он бы заготовил какой-нибудь бушприт впереди, какой-нибудь ватерпиль для прочистки судоходства. Но после того эпизода пришла из Кремля инструкция все подводные решетки заменить из сварочной стали. И больше вы уже никуда не уплывете. Нет! Я так плакал… Почему – утонул? Откачали мальчика. Сломали два ребра, повредили немножко зубы… И сейчас, говорят, он, словно граф Монте-Кристо, гуляет опять на свободе!..
Выстрелы и крик «Человек – в запретке! Человек – в запретке!» Бросив свою заготовку – письмо к Марии, я выскочил из барака. День был праздничный, 2 мая, никто не работал, и мы кинулись к вышке, откуда раздавалась пальба. Сквозь щели в первом заборе, на перепаханной полосе, в узком загончике между заграждениями, мелькал уже обезображенный зэк. Это был сумасшедший, его хорошо знали, наш лагерный сумасшедший – в халате, в кальсонах и в тапочках на босу ногу, – средь бела дня, по соседству с нами, с больнички махнувший за колючую проволоку. Куда он собрался? У него недостало бы мышц перелезть второй частокол, не говоря уже о прочих силках. В своих кальсонах и в тапочках он все равно бы не ушел. И ничего не стоило просто увести его за руку, как ребенка, с запаханной земли, из отсека, – когда по нему открыли огонь.
Били, очевидно, разрывными пулями. Я не бывал на войне и не знал, что в людях столько крови. Говядина! В мясных лавках видали говядину? Вот точно такого же цвета и состава. Впервые я наблюдал ее в живом и в человеческом образе… Он упал на колени, сумасшедший человек в больничном халате, совершенно уже простреленный, и поднял руки вверх, видимо поняв, наконец, что с ним происходит. А по нему стреляли и стреляли, пока он не перестал дергаться. Несколько мгновений спустя это мясо еще приподымалось, но не своею волей, а силой бивших по нему и рядом, в пашню, разрывных пуль…
Мы – вся жилая зона – столпились подле запретки, благо было 2 мая, пролетарский праздник, и что тут поднялось!
– Фашисты! – орали те, кто сидел за коммунизм.
– Коммунисты! – перекрикивали их уже ожегшиеся на коммунизме.
А мужики попроще, не причастные к политике, бросали старое и самое оскорбительное лагерное определение:
– Педерасты!..
И эти слова в моем сознании звучали тогда как синонимы…
Автоматчики – подступив с той стороны к зоне – тихо предупреждали:
– Разойдитесь по баракам! Не то – откроем огонь!..
Безусые мальчишки, завладев говядиной, они дрожали от страха и побелевшими губами твердили свой устав караульной службы: «Откроем огонь!..» Хорошо, никто сдуру не метнул камень за проволоку, и толпа отступила, глухо рыча, – свитком бессмысленных, равнозначных ругательств: «Педерасты! Коммунисты! Фашисты!..» Я вернулся к письму.
«Дорогая Маша!
Ты никогда не получишь этого письма. Сколько ни зашифровывай, ни плети околичностей – цензура не пропустит…
Только что, на моих глазах, за попытку «бежать» убили в запретке нашего бедного Клауса. Это был не совсем нормальный психически, но тихий и рассудительный зэк – из немцев Поволжья. Сидеть ему оставалось всего полгода – из его десяти (за побег). Я его мало знал, но сравнительно недавно меня с ним связало странное одно обстоятельство: ложная весть о моей преждевременной смерти.
Помнишь, полгода назад, на личном свидании ты рассказывала, что по Москве, в узком кругу, внезапно пронесся слух, будто я умер. Откуда пошло, кто принес на хвосте? – неизвестно. Говорили потом, что это какой-то западный журналист что-то перепутал. Ну слух – как слух. Только наши друзья, ты рассказывала, в эти дни стали относиться к тебе вдвойне предупредительнее и потихоньку вздыхать вокруг тебя, а Супер, молодчина, не выдержал и говорит: «Марья Васильевна! Все-таки вам надо знать правду. Ходит упорная версия, что Андрей Донатович скончался на днях в лагере. Нет ли у вас чего-нибудь выпить?..» И заплакал… Представляю, что было с тобою в эту ночь!.. Наутро (звонки! звонки! звонки!) в КГБ, со смехом, опровергли глупую утку: «Мы бы первые знали, если бы это случилось…» И, впрямь, КГБ все это было невыгодно. Тогда они даже ускорили нам свидание, чтобы ты сама убедилась, что я жив и здоров… Потом, в результате, ты писала, у тебя был инсульт. Но все обошлось…
Теперь представь, возвращаюсь я со свидания с этой нелепой версией, о которой никому не рассказываю в зоне, и тут же выходит в зону из бура наш Клаус. В таких случаях, ты же знаешь, мы отпаиваем человека чаем. И вечером, в нашей компании, ходит черная кружка по кругу, и Клаус немного оттаивает. Смеется:
– Думали обмануть дурака! Про тебя, Андрей, кричали три ночи подряд: умер, умер, умер в зоне!.. Но я эти фокусы уже знаю! Они хотели, чтоб я попросил у них прощения. Чтобы меня до срока освободили из бура – тебя проводить! Но я не дурак! Я их раскусил! Не унизился…
Восстанавливаю дату: когда были крики?.. Совпадает, примерно, с временем твоей московской истории. Спрашиваю, кто же кричал? мне это интересно… Другие не обращают внимания. Да брось, Донатыч! У Клауса, ты же знаешь, с головой не в порядке… Но меня заело, и вновь появилось сознание, что здесь КГБ примешано. Хотя, повторяю, я уже понимал, что КГБ тогда ни в смерти моей, ни в слухах на этот счет не было заинтересовано. Но кто же еще может, как сова, кричать по ночам в буре – по аналогии с Москвой?.. А Клаус все свое. Смеется: «Но я же им, Андрей, не поверил! Я – не дурак! Я же знал, что ты не умер. А все это нарочно подстроено…»
В огне печки – одни черные щеки. Умеют они в буре людей замаривать. Нечего делать. После чая отвожу за барак, и в темноте, без свидетелей: «Кто же, все-таки, кричал, Клаус? Охрана? Надзиратели?..»
Он страшно удивился. Почему надзиратели? Никаких надзирателей… Кто же тогда? Зэки? Нет, всех зэков, сидевших с ним в изоляторе, он перечисляет по пальцам. Все – свои люди. К этим крикам никто из них отношения не имеет и не может иметь. Это же – обман! Подлость! «Слушай, Клаус! Соберись с мыслями. Кто же тебе кричал, будто я умер? – пристаю я к безумцу. – Мне это крайне важно знать. Понимаешь?..»
И тогда он спокойно рассказывает, что на весь его лагерный срок, на десять лет, к нему приставлены два тайных агента от КГБ. Они-то и кричали. А ты их видел когда-нибудь? Нет, их нельзя увидеть. Они же – тайные… Но они сопровождают его повсюду – по зонам, по бурам, по больницам… С двух сторон. И всюду мутят, обманывают. Однако Клаус им никогда не верит. Он изучил их повадки. О, Клаус – не дурак!..
Теперь ты понимаешь, Маша, – кто кричал? Бесы кричали. Бесы, сопровождавшие бедного Клауса. Кто, кроме бесов, в буре ведал сплетню, ходившую тогда по Москве, ими же, возможно, и пущенную? Какое совпадение! И кто знает, как далеко простирается тень этой вражьей силы над нами?.. Я-то жив и невредим, как видишь. И шесть уже месяцев прошло с той вздорной истории. Обман рассеялся. Но сегодня, 2 мая, Клауса убили в запретке. Всего полгода ему оставалось дожить – до освобождения. Может быть, эти двое и толкнули его прыгнуть в запретку?.. До скорой встречи. Целую. Всего полгода…»
– Который час? – спросишь.
– Половина второго.
– Ой, уже половина? второго?!.
Все свидания сливаются в одну освещенную ночь. Но к чему нам жить, если не было и не будет свидания? «Не уходи! побудь минуту!» – мы всякий раз повторяем с тайным опасением, что уйдет и не вернется. Да и в нашей, взять, заурядной жизни мы оттягиваем смертное время разговором, или кофе, игрой в кости, рестораном, или скажешь: «почитай что-нибудь вслух – вдруг когда-нибудь понадобится…» Просто, чтобы продлить, отодвинуть и находиться поблизости, покуда не отнимут.