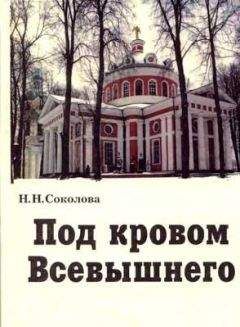Бабулька, тоже в платочке, но в городском свежеперелицованном пальто с рыжей через плечо потрепанной лисой со стеклянными «чучельными» глазками, вся увешана стояла связками крашеных в разные цвета невесомо-легких крошечных корзиночек из лыка; по бокам, у самых ручек, квадратные корзиночки эти были украшены искусно сплетенными лыковыми же цветными розанчиками.
Худой и сильно, видать, подслеповатый малый в кепке-восьмиклинке с пуговкой призывно жужжал и щелкал, ловко наматывая белыми длинными пальцами на карандашные деревянные палочки с проточенной вверху по кругу широкой лункой и разматывая обратно, сургучные красные, синие и черные цилиндрики на веревочках. Такая непонятно чем, все-таки, шумящая трещотка в виде удочки с грузилом, в народе имела название не то «уди-уди», не то «уйди-уйди» – а то башку прошибу…
После ухода с бульвара милицейских вылезали невесть откуда, прохаживаясь как прогуливаясь вдоль сквера, но не ступая на околопочтамтовскую площадь, многочисленные и пестрые семьи цыган.
Цыганские женщины постарше, в атласных шалях с кистями, предлагали погадать «на веселую судьбу», а если потенциальная «клиентка» была без кавалера и отказывалась, но при этом неуверенно смотрела гадалке в лицо, та начинала пугать страшным, потом тянула за собой полусозревшую жертву в кусты за лавками и предъявляла ей ужасные доказательства будущих бед: но сначала просила, например, перекреститься и плюнуть на вытащенную из-под воротника самой цыганки блестящую новенькую иголку.
При этом рядом появлялась вдруг девочка лет десяти-двенадцати, и цыганка говорила:
– «А вот и дочь моя с нами – а божье дитя не даст соврать! Не бойся, милая! И верь мне! Помогу тебе во всем, красавица!»
Тут уж «красавица» неуверенно крестилась, потом плевала на иглу – и, о ужас! – блестящая иголка немедленно становилась ржавой!
Жертва гадания заметно бледнела и начинала дрожать губами…
«Ой, недоля твоя, девушка, недоля! Дай дальше посмотрю, что тебя ждет!» – и вот появлялось у цыганки в руках протянутое ей девочкой-помощницей сырое куриное яйцо.
«Мамаша» ловко завертывала его в обтерханный носовой платок, грозно восклицала:
– «Гляди, что увидишь!», тут же с треском раздавливала яйцо в платке – и на долю секунды раскрывала, а потом немедленно закрывала свою ладонь.
В желтой яркой середине сопливого яйца, среди скорлупок, показывался на мгновение огромный шевелящийся черный жук!
Старуха отбрасывала на землю мокрый этот платок и плевалась через левое плечо, девочка куда-то исчезала – не забыв подхватить и унести следы гадания, а клиентка, в полном ужасе и раздрае чувств, отдавала цыганке все свои накопленные специально к празднику скудные денежки из спрятанного во внутреннем кармане старенького пальтеца потертого кошелечка, чтобы «очиститься от недоли».
И получала взамен ржавую иглу с указанием зарыть ее в полночь под первой попавшейся березой…
А уличный праздник на бульваре продолжался…
Невзрослые цыганята-подростки бойко разносили веером растопыренные в грязных ладошках самодельные сладости, – и сами, украдкой от своих же старших, изредка эти сладости подлизывали: петушки и сердечки из жженого темно-рыжего сахара, насаженные на кривоватые и занозистые, если долизать до конца, щепочки-лучинки.
Молодые и пузатые, потому что вечно беременные, мамаши-цыганки с хорошенькими кучерявыми и черноглазыми младенчиками на руках, и при них худенькие девочки-няньки из тех, что постарше – с очень длинными и густыми распущенными волосами – торговали невесть из чего надутыми, раскрашенными масляной густой краской и гремящими внутри горохом «пузырями».
Мужчины-цыгане на Пруду попадались не часто – они шли, внимательно и остро позыркивая по сторонам и то и дело оглядываясь назад, да покуривали маленькие изогнутые трубочки и протягивали их вдруг некоторым, отдыхавшим на скамейках, уткнувшим руки в карманы, одиноким мужикам, с коротким вопросом: «Повеселишься, брат?»
Потом присаживались рядом, сначала просили денег. А затем протягивали дымную трубочку – давали разок затянуться, только из своих рук, трубочку при том не выпуская ни на миг, – да еще раскрывали вдруг перед носом курильщика колоду карт из нагрудного кармана, но не гадали, и играть в очко, или, понятнее, в «секу» – не предлагали. А карты перед носом клиента держали «рубашкой» – там, на крапе, в срамных позах, нарисованные наяды развлекались, кто с кем – или же с чем – умел…
И все поголовно боялись милиции.
Молодняк – и Кольку, виновника торжества, в том числе – просила Пелагея к столу не опаздывать и на улице всякими булочками, петушками слюнявыми цыганскими да ситром аппетита не перебивать!
В подготовке стола – а вернее, того, что на столе стоять должно было, – участие принимало почти все женское население квартиры, кроме самых старых да малых.
Мужчины – а их было не так уж и много – дружно перетаскивали из всех почти комнат в коридор и на кухню стулья и табуретки, а затем и столы.
Женщины всю принесенную к кухне немудрящую мебель протирали тряпками, а столы покрывали сначала обтерханными по углам до холстинной основы, толстыми и негнущимися клетчатыми клеенками, потом – чистыми, но «разномастными» скатерками, и уж затем сдвигали готовые столы «по росту» в один, растянутый «паровозиком».
Длинный этот «состав» формировался в виде двух букв «Т», как бы зеркально отражавшихся друг в друге вверху и внизу – точно дерево на берегу пруда. Или же как два гриба, уложенных в корзинку толстыми ножками друг к другу, а шляпками – врозь.
Одна часть столов расставлялась в широкой и очень просторной коммунальной кухне – «шляпкой» под широченным окном, «ножка» – тянулась вдоль обеих газовых плит и кухонной мебели до самой двери в коридор, где и прерывалась у выхода из кухни – чтобы можно было туда пройти.
Затем столы продолжали расставлять в широкой и просторной части коридора – бывшей овальной прихожей – и там уже «ножка» гриба была гораздо короче, чем в кухне, а «шляпка» – торцевой стол – почти упиралась в двери аж двух комнат, оставляя соседям лишь узенькую щелку для выхода – сразу «в гости».
Дыру в проходе между столами из кухни в коридор решено было потом, когда все рассядутся в кухонной части, закрыть, – положив сверху на края разъединенных столов снятую с петель дверь, как длинную узкую столешницу, обернутую вместо скатерти обычной простыней.
По разрешению Евгении Павловны Должанской, на кухню входить стало возможно через ее огромную, смежную с кухней, комнату, когда-то хозяйскую столовую – сквозь боковую, раскрытую на время, потайную дверь в стене – то есть, через бывший «раздаточный» проход для прислуги, хитро устроенный в виде завитка волны: прежде в квартире приготовленную пищу господам подавали не кухарки …
Между тем, в другом конце квартиры – в кладовке, – мужская часть соседского населения, а именно: хромой солдат дядя Паша снизу, а офицер-профессор Александреич сверху, стоя на шаткой стремянке, снимали со вбитых в стенки по самое некуда железных костылей широкие неструганые доски полупустых полок и с грохотом кидали их вниз, на старый паркетный пол пыльной, квадратной этой маленькой комнатки без окон, задуманной когда-то старорежимными архитекторами как гардеробная для всесезонного хранения верхней одежды и господских шуб.
Потом оба соседа, в едином рабочем порыве олицетворяя смычку трудового народа и советской интеллигенции, одинаково хекнув, дружно подхватывали и несли сразу все доски на своих плечах в узкий коридор.
Там, напротив кухни, они оборачивали шершавую сосновую поверхность недоделанных этих грубых полок коричневой широкой лентой плотной крафт-бумаги, рулон которой тайно стащил кто-то из населяющих коммуналку несознательных жильцов прямо с соседнего, типографского, двора, пока тамошние растяпы – «метранпажи» и присные с ними – отходили куда подальше покурить, что, кстати, им было категорически запрещено грозными трафаретными надписями на всех типографских стенах!
На концах досок оберточную бумагу закрепляли: дядя Паша подворачивал и приминал ударами мозолистых жестких ладоней острые и колкие бумажные углы на краях, а профессор, который, между прочим, «культурно работал» в старых лайковых перчатках, аккуратно обвязывал торцы тонкой бечевкой.
Обернутые доски клали по одной на сиденья каждых трех расставленных подалее друг от друга табуреток – и получались длинные скамейки.
На всех восьми конфорках обеих газовых плит дружно кипело и шкворчало праздничное «угощение»: щи с салом и курицей, вареная картошка, – и чищеная, и в мундире; котлеты – да не мелкие «магазинные, из отонков», а большие домашние, с тертым чесночком и даже с провернутым через мясорубку зеленым луком, специально выращенным у Должанских, в большущей кадке с ветвистой вечнозеленой пальмой, стоявшей в этой комнате, кажется, всегда – в углу у рояля, возле балкона.