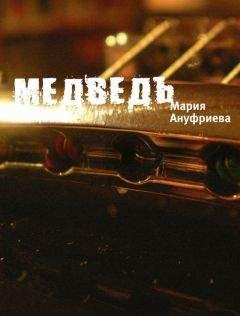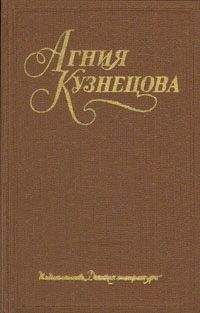Ознакомительная версия.
Я не знаю, как пережила бы следующую ночь, если бы ко мне вышел другой врач и сказал просто:
– Он умирает.
А ее округлая фраза еще оставляла щелочку надежды, которую я не имела права терять: собирается, но вдруг все-таки не соберется?
Крылья внутри не переставали биться. Может, и появились они для того, чтобы не дать умереть надежде даже в самой крайней – крайне тяжелой ситуации.
Врач сказала, что утром, если будет позволять обстановка в палате, я смогу увидеть Медведя. На следующий день рано утром я снова была в больнице, но с ней не встретилась. Сначала она заполняла карточки, а потом, как фата-моргана, бесследно растворилась в белых коридорах, хоть я и караулила у дверей, из которых она могла выйти.
Я ждала, сидела, ходила из стороны в сторону. В верхней одежде с портфелем в руках быстрым шагом вышел, почти выбежал Бегемотик. На нем была совершенно не современная каракулевая шапка-пирожок. Точно такие носили ученые, учителя и врачи в начале двадцатого века.
В отставшей от моды шапке из прошлого века он оказался смешным и настоящим… Удивительно красивый человек, хорошо, что такие еще существуют. Когда они исчезнут, в человеческой породе умрет то, что уже не реанимируешь. То, что делает нас людьми.
Когда не останется таких, как уставший после дежурства Бегемотик, с портфелем в руках, с булгаковской шапкой-пирожком на голове, их место займут одни эффективные менеджеры. И процесс эволюции пойдет вспять.
В прошедшую ночную смену Бегемотик отвечал за другую палату, но я все равно окликнула его по имени и, не зная как правильно задать вопрос, спросила в лоб:
– Скажите, он уже умер?
– На утреннем обходе был жив, но по-прежнему крайне тяжелый, – бросил он немного удивленно, на ходу, не оборачиваясь. Ведь хорошие врачи не должны оборачиваться, когда им задают такие вопросы. Бегемотик был очень хорошим врачом.
Приехали родственники. Замерли в коридоре. Долго-долго-долго. Когда настало время выхода врачей, я встала в конец очереди: больше нет сил, когда слова, предназначенные только тебе, слышат все вокруг, а в спину уже настойчиво дышит следующий, такой же, как ты, перепуганный и потерянный человек.
Перед нами стояли мужчина и женщина. Очередной, не виденный мною раньше врач, очень высокий, рассказывал им о вполне удовлетворительном состоянии их родственника. Они спросили, можно ли пройти к нему. Он ответил отказом и немного нервно объяснил:
– У меня в палате человек умирает, вокруг него медсестры бегают.
Мы стояли последними, и других вариантов не было.
На всякий случай я переспросила:
– Это наш?
Врач замялся, зачем-то сверился с картой истории болезни. Хотя все и так было понятно: я – последняя в очереди, карта – последняя в его руках.
– Я пущу попрощаться с ним только одного из вас, на четыре минуты. Выбирайте, кто это будет, – сказал он.
Мы отошли в сторону.
Стояли и выбирали.
Выбирали.
Выбирали.
Выбирали, кто из нас последний увидит его живым. Кто сможет проститься с ним – мужем, сыном, братом.
Четыре минуты.
Только один человек.
Почему?
Выбор пал на меня.
Врач переспросил, кем я ему прихожусь, и повел за собой.
Когда мы шли по коридору реанимации, кислый запах перехватывал дыхание, врач слегка хлюпал носом и жалобно объяснял:
– Вы, наверное, не знаете. Он в мою смену поступил, я его и принимал. Он с самого начала был крайне тяжелый… Поймите, я уже ничего не могу сделать. Это конец.
Вчера мне повезло с врачом – восточной красавицей, а сегодня – с ним. Было видно, что ему хоть немножко не все равно, а значит, и в текучке большой больницы можно найти место чувствам.
Он был ровесником Медведя и, видя фотографии и иконы возле его кровати, наверное, тоже понимал, как обидно и глупо умирать в тридцать лет. Глупо, как же глупо!
Перед входом в палату он так же жалобно спросил:
– Вы не упадете? Вас поддержать?
Падать я не собиралась, потому что еще несколько минут назад перестала быть собой.
Внутри все окаменело, даже та самая дальняя, самая тайная полость, в которой бились невидимые крылья. Окаменело – и даже душа не трепетала. Молчала. Словно тоже окаменела. Словно умерла вперед Медведя.
Напрасно врач беспокоился. В случае необходимости у меня еще оставались силы поддержать и его. Когда человек становится каменным, он крепко стоит на ногах, на него даже можно опереться.
Возле кровати у окна врач помедлил, с опаской посмотрел на меня и сказал еще более упавшим голосом:
– Видите, он совсем плохо выглядит.
Выглядел Медведь точно так же, как в мой последний визит – ночью перед операцией, когда был крещен: восковой, отекший, прохладный, кисло пахнувший, мой и не мой одновременно.
Неужели они больше ничего не могут сделать? Неужели там, под бинтами, ничего, совсем ничего не осталось?
Я с ним прощалась. Я словно видела себя со стороны. Не знала, что надо делать. Как прощаться с умирающим человеком? Как мне прощаться с Медведем?
Вспомнила, как мы расставались на перроне перед отправлением ночного поезда. Так буднично, скучно, так слепо. Жизнь была цветной, а мы не знали об этом. Но потом он спустился с подножки и поцеловал меня. В последний раз. Вот это и было настоящее прощание. А сейчас… даже не знаю, как это назвать. Что я должна сказать? Что сделать?
Я взглянула в окно: серое небо, серое Купчино, серый снег. Положительная динамика отсутствует. А может, схватить и встряхнуть его как следует, чтобы он очнулся?! До этого я так хорошо вела себя в реанимации, что никто от меня этого не ожидал. Вот и медсестра на посту слева от входа не смотрит.
Я наклонилась над ним, разглядывая лицо, но вошел высокий врач и стал поодаль. Конечно, я и без него ничего не сделала бы. Потому что Медведь еще был жив. Потому что я верила, что он выживет. Прощаясь с ним, я верила в то, что он не умрет.
Он был не мертв. Дверь в жизнь была уже почти закрыта, но все еще оставалась узкая щелка, через которую могло просочиться чудо, если чудеса существуют на свете.
Я проверила, на месте ли прибор, поддерживающий биополе человека и не дающий душе покинуть тело. На месте.
Хотела вернуть ему обручальное кольцо, но не смогла надеть его на отекший палец.
Я глядела на него, всматривалась, запоминала.
В эти минуты я отчетливо поняла, что в самой смерти нет ничего страшного, если она неосознанна. Страшно умирать долго и мучительно, находясь в сознании и не зная, когда закончатся страдания. Страшно оставлять родных и близких, зная, как они будут мучиться. Страшны переживания и горе.
Сама смерть, переход из одного биологического состояния в другое – очень технична. Я видела смерть совсем близко и поняла, что у нее нет своего лица. Есть кислый запах, заострившийся нос, тени под глазами. Есть тысячи, миллионы таких лиц. Придет время, таким будет и мое лицо. Будет ли кто-то так же хотеть отнять меня у смерти, как я хотела отнять Медведя?
У смерти нет лица – есть лик, сложенный из лиц людей, живших, живущих и еще не родившихся.
У смерти нет лица – есть лик, сложенный из кривых улыбающихся личиков, которые заменяют слова, когда нечего сказать. Эти виртуальные колобки-личики – смайлики – как пираньи, могут сожрать тебя в реальности, если ты дашь слабину, пойдешь у них на поводу и сам впустишь их в свою жизнь. Это бессмыслица, возведенная в абсолют. Это лик смерти.
Эти смайлики сожрали и меня. Нас с ним. Я стояла возле кровати и не знала, что сказать Медведю в последний раз. То, что надо, – он и так знает, ведь я все время разговаривала с ним.
Наверное, перед ликом смерти надо говорить о высоком. Но высокие слова не шли мне в голову. Может, потому, что приближавшаяся к Медведю смерть была такой нелепой.
Оглядываясь на окно, я все искала за ним вдохновения для высоких слов. И не находила.
Серое небо, серый город, серый снег – не могли мне его дать.
Встреча с друзьями, которых он был так рад видеть, хоккей, паб, ушедшая электричка, пропавшие телефоны, выталкивающий в спину милиционер, вихрастый водитель, «Скорая помощь», приведшая в больницу скорой помощи, – не могли мне его дать.
Вдохновение мне мог дать только он сам. Но он уходил от меня – рано, глупо, нелепо. Какое уж тут вдохновение?
Я держала себя в руках – не пугать врача, не пугать медсестер. В голове бегущей строкой неслась без пауз, без пробелов, без запятых короткая фраза:
– Неможетбытьнеможетбытьнеможетбытьнеможетбыть…
– Ты на меня сердишься, Машенька? – последнее, что он сказал мне в тот вечер.
– Я не сержусь на тебя, я тебя люблю, – отвечала я сейчас, сжимая его руку – уже привычно пухлую, прохладную, непослушную.
Ровно через четыре минуты врач попросил меня идти за ним. Я уже было пошла, а потом вернулась, наклонилась и еще раз поцеловала – как тогда, на перроне, вернулся и поцеловал он.
С икон, стоявших у изголовья кровати, беспомощно смотрели святые. За спиной беспомощно хлюпал носом врач.
Ознакомительная версия.