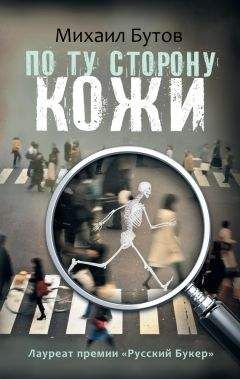Воспоминания о прошлых успехах не покоили Александра Васильевича. Он относился к тому типу людей, которые подтверждений собственного таланта требуют от себя каждый день, снова и снова, а не получая их, тут же начинают примерять к себе жеваный костюм неудачника. И вдруг оказалось, что здесь он приходится впору. Как истинному неудачнику и подобает, он стал нуждаться в ком-то, кому мог бы поставить в вину все, что с ним происходило. И не пришлось искать далеко. Никогда и никого не случалось ему ненавидеть сильнее, чем Нину и ее мать в эти дни. Стоило почувствовать однажды вкус этой ненависти – и с тех пор он не мог уже сдерживаться и стал по любому поводу выплескивать в нее свою ярость, происходящую от бессилия. Даже не исчезнувшее окончательно сознание того, как все это подло по отношению к жене, уже не останавливало, но растравляло. Бывали минуты, когда лишь некоторая трусость не позволяла ему дать волю рукам. Так прожили еще год. К концу его их с Ниной развод был делом уже настолько очевидным, что само слово не было нужды даже произносить вслух. Александр Васильевич ждал развода со злорадным нетерпением и мальчишеским предчувствием торжества, в полной уже уверенности, что, как только снова станет свободным – дело тут же пойдет, чем и докажется неопровержимо, кто именно был во всем виноват.
Но трезвость ума и способность видеть настоящее положение вещей все-таки вернулись еще к нему, однажды ночью. Не прислушайся он тогда, было бы это, вероятно, в последний раз и на несколько часов всего. Но Александр Васильевич испугался. Потому что наконец понял ясно то, что в глубине души чувствовал, в сущности, уже давно: что виноватых нет и все действительно – кончено; просто что-то уже не замкнулось в судьбе, раз и навсегда, а ломиться теперь, пытаясь угнаться за тенью, вот так отчаянно, не разбирая дороги, – значит своими руками готовить себе участь, лучший символ которой являет завсегдатай пивной, по сто раз на дню излагающий за опивки историю о подрезанных крыльях. Всю эту ночь он пролежал неподвижно, вытянувшись на спине рядом с просыпавшейся то и дело, но остерегающейся уже заговаривать с ним Ниной, и разглядывал на потолке треугольное пятно слабого света от фонаря за окном. Он отмечал, как постепенно, словно медленная вода, стекает с него уверенность в своей предназначенности к чему-то иному, нежели обыкновенное прозябание обыкновенных людей. И вдруг исчезло напряжение, ни на миг не отпускавшее его уже столько месяцев. А первое, что принес с собой покой, – странное видение города: так открывался бы он невероятной птице с рентгеновским зрением бесконечного разрешения. Миллионы и миллионы нагроможденных друг на друга ячеек, в каждой из которых лежал в эту минуту, скорчившись или распластавшись, такой же, как и он сам, микроскопический человечек. И Александр Васильевич загадал, что если прямо сейчас, здесь, найдет слова, чтобы выразить заставившее его задохнуться ощущение полной ничтожности и словно бы несуществования перед лицом этого москитного множества всякой отдельной жизни и судьбы, чьей-то отдельной боли, чьей-то надежды вырваться, – то когда-нибудь способность писать еще вернется к нему. Но сочинил под утро только афоризм. О том, что самым грандиозным промыслом по поводу нас стало бы отсутствие всякого промысла.
На следующий день он впервые попытался как-то объясниться с Ниной. Вышло путано, и вряд ли она поняла детали, но самомнения Александр Васильевич так и не утерял и потому считал, что такого искреннего разговора и некоторого его покаяния будет вполне достаточно, чтобы восстановить если не прежние, то хотя бы нормальные отношения. Нина была мудрее. С виду долго еще ничего не менялось между ними; посторонний взгляд только и заметил бы, что царившую в семье крайнюю отчужденность. И все же что-то сдвинулось с мертвой точки, разрыв перестал видеться единственно возможным исходом.
А потом – и тогда это порядком смахивало на чудо – ему предложили вдруг редакторское место в журнале, где он начинал печататься. Довольно скоро он опубликовал свою первую развернутую рецензию, а следом пошли статьи – и закрепощенная речь наконец прорвалась опять, пробив себе новое русло. Все возвращалось понемногу на круги своя, и отчаяние при каждом упоминании времени уже не охватывало его. Хотя долго еще случались дни, когда и новая его работа, и более-менее выравнивающиеся отношения в семье казались ему лишь жалкой маскировкой, драным покрывалом, которое он тщетно пытается набросить на ту непереносимую пустоту, что так или иначе демонстрирует себя сквозь многочисленные дыры. Тогда в любой омут он готов был кинуться очертя голову – но как бы не находил всякий раз, куда, во что мог бы сорваться. Женщины пугали его – ржа неуверенности в себе незаметно подъела жизнь и с этого бока. Попробовав было целенаправленно запивать, он добился только понимания, что ему водка не может доставить ни осоловелого бесчувствия, по противоположности смыкающегося уже с довольством, ни даже должной степени отвращения к себе – но лишь усиливала и без того донимавшее ощущение движения по кругу, повторения одного и того же, одного и того же… Вместо искомой анестезии приходило болезненное и неуправляемое возбуждение, выгонявшее его на бесцельные блуждания по городу, иногда ночи напролет.
Нина не попрекала его никогда и ничем. Собственно, кроме того, самого первого, разговора они вообще никогда – ни в повышенных, ни в безразличных, ни в сочувственных тонах – не обсуждали происходящее. Только много спустя Александр Васильевич наконец-то задумался, каких душевных усилий стоила ей эта деликатность. Мать ее к тому времени уже неизлечимо болела, почти ничего не могла делать сама и нуждалась в постоянном присмотре. Он же, выходя из очередного кризиса, подолгу нежился в расслабленном состоянии, которое про себя именовал уважительно: реакцией, – и с настойчивостью капризного младенца тоже требовал к себе особенного внимания. Но только однажды, случайно, глубокой ночью отправившись на кухню выпить воды, он застал Нину в слезах. Да и тут первым делом она постаралась изобразить улыбку.
Один из этих вымученных загулов окончился тем, что Александр Васильевич – опять-таки и в виду не имея заручиться сперва согласием своих домашних, а, наоборот, со смутным намерением в очередной раз утвердиться в собственных глазах через конфронтацию с ними – притащил в квартиру неуклюжего черного в подпалинах щенка, купленного за рубль у нечистоплотной тетки возле рынка. И неожиданно привязался к собаке куда сильнее, чем мог от себя ожидать. Он пристрастился теперь к долгим прогулкам, ради которых стал выбираться по выходным даже в пригород, за кольцевую, где уходил в сохранившийся еще лес и часами просиживал под каким-нибудь деревом, пока маленький звереныш весело скакал вокруг, гонял шмелей или, уставший, засыпал ненадолго, положив голову ему на ботинок. Вроде бы ничего нового, кроме самого своего факта да толики забытой уже душевной теплоты, появление щенка в жизнь Александра Васильевича не привнесло. Он не вынашивал новых мыслей, к чему могли бы располагать их продолжительные лесные уединения, не находил большей осмысленности в существовании, тратя по полдня в очередях на прививки у ветеринара, и уж тем более не становился счастливее оттого, что приходилось обегать магазины в поисках дефицитного геркулеса (совесть его промолчала бы, переложи он на жену и эту заботу; и если он не делал этого – то не из милосердия, а из потребности считать собаку исключительно и безраздельно своей). Тем не менее уже очень скоро ему стало как-то проще терпеть и Нинино присутствие рядом. Их почти безмолвные вечера вдвоем сделались для него по-своему даже приятны. Мать ее практически уже не вставала с постели, и они ужинали обычно, сидя на кухне друг напротив друга и ведя как бы затухающий после каждой фразы разговор, касавшийся разве что хозяйственных мелочей.
На пятом месяце жизни этот предшественник Жака угодил под колеса автомобиля. Александр Васильевич в гибели его виноват не был и даже в недосмотре не мог себя обвинить: подросший песик что-то углядел на другой стороне улицы и бросился наперерез движению так стремительно, что догнать его не оставалось никакой возможности – все произошло за секунду. Александр Васильевич зарыл его ночью в дальнем конце пустыря, выходившего к железной дороге, и завалил могилку кусками асфальта, которые подобрал неподалеку, где прокладывали трубы к новым домам. Он горевал так, как можно горевать о единственном по-настоящему близком существе. Нина переживала тоже, и он видел – искренне. Горе выжгло в нем главную помеху сближению с женой: гордость. А Нина… Нина, должно быть, давно уже дожидалась своего часа, женским чутьем еще где-то в самом начале угадав, что если до поры ей и не под силу на что-нибудь повлиять, то жизнь рано или поздно сама переломит мертвую окостенелость его души, и тогда уж либо совсем все закончится, либо изменится все-таки в ее пользу – третьего не дано. Теперь, когда для нее наконец наступило время действовать, тактику она выбрала как всегда безошибочно. Так незаметно, ненавязчиво и исподволь, что Александр Васильевич и вспомнить потом не мог, в чем, собственно, состояли ее уроки и какие именно ситуации она в них обращала, Нина с упорством и терпением, подобными тем, с какими приобщают слабоумных к человеческому общежитию или варваров к истинному исповеданию, учила его всему, во что свято верила сама: что и простые вещи этого мира тоже немало значат и достойны любви. И в тот день, когда он впервые, уже совсем спокойно и даже с благодушной насмешкой спросил себя, а так ли много потеряло человечество, недосчитавшись одного сочинителя, стало ясно, что из долгой борьбы с призраками, обладавшими весьма не призрачной способностью к разрушению, она вышла победителем.