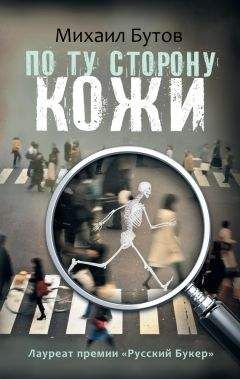Через полтора года у них родилась Маша.
За стеной, на кухне, пошла шумно раскручиваться пружина в ходиках, и полминуты спустя пластмассовая кукушка отсчитала восемь. Если он собирался звонить Тарквинеру, то откладывать дальше было некуда. Принимая во внимание ночной образ жизни Иосика и привычку ужинать у кого-нибудь из многочисленных старых, новых или – безразлично – полузнакомых, позднее дома его наверняка не застанешь.
Он снял трубку, послушал гудок, поводил пальцем над циферблатом, но потом вернул трубку на место. Подумал, что осторожность, которую с тех пор, как сделалось уже глупо изобретать другие названия для своей железной от Иосика зависимости, он вынужден соблюдать в отношениях с ним, определяя заранее смысл и необходимость всякого к нему обращения, – такая осторожность, конечно, унизительна. Но еще унизительнее лишний раз ставить себя в положение ожидающего подачки да к тому же и убеждаться заново, насколько мало она значит для дающего: так что бросить можно не оценивая, между делом. В последний год уже любой, даже пустой разговор с Тарквинером заставлял его вспоминать в первую очередь об этом.
Из тех, с кем еще на заре молодости объединяли Александра Васильевича литературные дерзания, связь он сохранил только с Иосиком. И неизменно дорожил этой дружбой отнюдь не в силу одних только ностальгических воспоминаний. Уже тем был ценен Тарквинер, что остался последним в окружении Александра Васильевича человеком, всерьез увлекающимся джазом. Так что давно уже только через него доходили кое-какие новинки, а то и раритеты. Но главным здесь – о чем Александр Васильевич никогда не откровенничал ни с самим Иосиком, ни с кем-либо другим – было почему-то чрезвычайно для него важное ощущение особого рода общности: дело в том, что, как и Александр Васильевич, писателем Тарквинер не стал. То есть среди знакомых юности Александра Васильевича, подававших или считавших, что подают, определенные на этот счет надежды, писателем – что бы некоторые ни мнили до сих пор о себе – не стал никто. Но это-то было скорее закономерно, чем неожиданно. А вот Иосик… Казалось бы, вырасти он обещал не в баловня только чужих кухонь. Пожалуй, из всех опытов своих сверстников единственно к его вещам относился тогда Александр Васильевич без натяжки серьезно. Как-то очень точно уравновешивались в них изысканная манерность, юмор, а вместе с тем и подспудный, лишь слегка прикрытый неподдельный ужас. Общая болезнь, однако, не минула и его: писал Иосик от случая к случаю, мало и редко, все твердил о пути зерна, а в результате так и не ушел по нему дальше дюжины десятистраничных рассказов. Впрочем, его самого все это, скорее, забавляло – и к себе, и к своему писательству он относился всегда с иронией и даже в приятельских кругах как-то не очень старался зарабатывать на нем популярность. Даже доволен был вроде бы, что отношения с литературой ограничивает вечными синекурами – то кружок при Доме пионеров, то творческое объединение на заводе, – которыми кормился, при случае добирая перепродажей модных книг возле букинистического (в новые же времена причислился к фирмочке, торгующей книжным антиквариатом, – но без особых, видно, доходов). Ни пока Александр Васильевич редактировал в первом своем журнале, ни после того, как перешел в более солидный нынешний, Иосик ни разу и ничего не пытался куда-либо через него пристроить. А когда, едва получив возможность что-то в редакции предлагать от себя, Александр Васильевич чуть ли не первым делом подумал о нем и сам уже попробовал что-нибудь из него вытащить, хотя бы старое, – только отнекивался: «На что, старик? Вдруг придется отказывать – станешь искать повода разругаться. Зачем…» Так что напечатался впервые уже сорокалетним в паре новоявленных альманахов того сорта, что выдерживают от силы два номера. Его новые вещи Александра Васильевича сильно разочаровали. Какой-то полулубок, полусказка, они оставляли в недоумении насчет того, ради чего, собственно, были написаны.
Но обладал Тарквинер и другим, действительно редким даром, Александра Васильевича порой буквально завораживавшим. Умением смотреть на любой текст как бы из ниоткуда, находить всякий раз совершенно особую точку зрения, начисто игнорируя представления устоявшиеся. Поэтому даже в книгах, уже набивших оскомину и заученных чуть не наизусть еще со школьной скамьи, так что и предполагать, казалось, нельзя было в них чего-то до сих пор незамеченного и неожиданного, умудрялся вычитывать неявные сюжетные ходы, находить знаменательные параллели и совпадения, открывавшие в поэме или романе второе дно и представлявшие их внутреннюю жизнь в новом свете, из чего следовал целый ряд выводов броских, часто парадоксальных – но никогда не беспочвенных.
Впервые этим его талантом Александр Васильевич воспользовался вполне безмятежно. В одной еженедельной газете ему предложили тогда делать раз в месяц обзор новой прозы, выходящей в журналах. Он согласился: платили газетчики прилично, а особенно требовательны, казалось, не будут – так что отделаться можно простым перечислением с коротким пересказом сюжетов да двумя-тремя оценочными фразами. Но потом выяснилось, что ждут от него все-таки анализа, вскрытия сути направлений и тенденций. Да и у самого как-то не поднималась рука заполнять целую полосу общими местами. Тут-то Александр Васильевич и обнаружил, как катастрофически не хватает ему, привыкшему к размышлениям неспешным, свежих идей для такой жесткой в сроках работы. Уже через полгода он поймал себя на том, что замыкается в повторениях. Вдобавок и читать его теперь все больше тянуло уже что-нибудь проверенное временем, а постоянно следить за сиюминутной писаниной было неприятно и утомляло. Об этих трудностях Александр Васильевич и поведал однажды Иосику, когда тот, следуя, вероятно, некоему имевшемуся у него графику, как-то вечером без предупреждения заявился к нему домой. И Тарквинер тут же, по видимости, не задумываясь, помахивая зажатой в пальцах сигаретой и кося одним глазом в футбольный чемпионат Европы по телевизору, выдал в форме ни к чему не обязывающего размышления вслух такое количество соображений по самым существенным вопросам, что их разработки хватило Александру Васильевичу на весь следующий сезон.
А когда год спустя Александр Васильевич втягивался в новое предприятие, Иосик в его планах так или иначе уже присутствовал – хотя бы в качестве человека, у которого всегда можно справиться насчет чего-нибудь необщеизвестного. Теперь для другого еженедельника, но тоже раз в месяц и тоже на полосу, предстояло давать статьи по поводу памятных литературных дат. Определять эти даты Александру Васильевичу предоставлялось самому, к тому же и полная их округлость не требовалась так уж непременно – и писать, по сути, он оставался свободен почти о чем угодно. Накупив литературных календарей за прошлые годы, он выбирал из них, стараясь, чтобы количество лет оканчивалось хотя бы пятеркой, приходящиеся на нужный месяц годовщины либо какого-нибудь писателя, либо выхода в свет знаменитой книги.
Эта работа пришлась ему по душе куда больше предыдущей. Почти всегда общий план статьи возникал у него сразу же, едва лишь он находил тему. И хотя тон для этих статей он выбрал несколько ироничный, сочетать его надеялся с осмыслением вещей по-настоящему глубоких. Поэтому не хотелось пренебрегать и тем еще, что, в добавление к первоначальному плану, могло бы выявиться в дельном обсуждении. Ради таких обсуждений он и стал теперь встречаться с Иосиком регулярно, раз в пару недель: иногда отправлялся к нему сам, но чаще зазывал к себе, где, понемногу подогреваясь коньяком, они погружались в пространные беседы то о красочной судьбе Державина, то о готических вымыслах, то о стихах какого-нибудь Элюара. И вдруг обнаружилось, что всякий раз в конце концов именно высказанное Иосиком не то чтобы опровергало или замещало собственные идеи Александра Васильевича, но, даже добавляясь к ним, обладало как будто высшим рангом необходимости: так что для более полного раскрытия темы предпочтительнее было бы отказаться от своего, нежели замолчать и обойти хоть что-то из того, что предлагал Тарквинер.
Тогда Александр Васильевич начал беспокоиться. Он затруднялся ответить, раскусил ли Иосик ситуацию и пользуется ли ею, поставив, незаметно и, может быть, неосознанно, дело таким образом, чтобы иметь время от времени случай почувствовать свое превосходство (что не так уж непозволительно между давними приятелями), или же остается достаточно благороден, а то и вовсе не замечает двусмысленности положения. Но так или иначе начинал требовать от себя большей определенности в терминах: паразитирование или все-таки симбиоз? Чтобы убедиться во втором (как было бы, конечно, предпочтительнее этически), следовало угадать, извлекает ли Иосик из всего этого для себя какую-нибудь пользу, и если да – то в чем именно она состоит. Но вот это для Александра Васильевича и оставалось загадкой. Однажды он попробовал было заикнуться о том, чтобы ставить над статьями две фамилии и делить в определенной пропорции гонорар. Но Иосик только отмахнулся. Да и подходы издалека, разговоры о том, что Тарквинеру давно уже следовало бы заняться критикой, где он несомненно сделает себе имя и в чем Александр Васильевич мог бы на первых порах составить ему нужную протекцию, не вызывали у него особого энтузиазма.