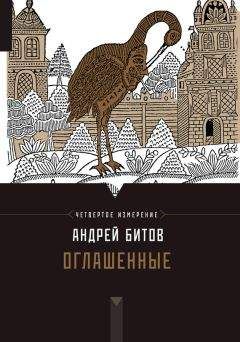Через день, буквально на пять минут, проверял мое состояние Аслан. Этот в высшей степени достойный молодой человек рано остался без отца, и теперь на нем лежало все хозяйство, и мать, и сестры. Ранняя зрелость была его отличительной, пожалуй, чертою. Мальчишеский непобедимый румянец пробивал уже рыцарские его черты. Он что-нибудь рассказывал о своих заботах, ненавязчиво предлагая зайти к нему попробовать чачу, которую он как раз только что выгнал, или косячок дряни из как раз полученной им новой партии. Кажется, получилась, кажется, хорошей… Он не настаивал.
Наверное, Аслан ходил к нему, а не ко мне. Однажды он пришел сверх обычного возбужденный и бледный и, обращаясь уже как бы только ко мне, попросил меня, столь уважаемого человека, присмотреть за его младшим братом, который в последнее время стал внушать ему некоторые беспокойства, в знак чего он с опасением понюхал свои руки. Я кое-что уже слышал от Аслана о брате, но, мне казалось, о старшем: тот был силач и богач, держал ларьки в Гаграх, и Аслан им, видимо, гордился, как бы мечтая со временем на него походить, – но как бы я мог следить за ним отсюда, за сотню километров?..
Дело в том, сказал он, что он мечтал для брата о другой судьбе, никак не похожей на свою. Что было делать, они рано осиротели, все деньги ушли на похороны, на старшего легла вся ответственность, и ему пришлось идти на дело (и он снова понюхал руки)… сейчас ему удалось обмолотить вагон, и теперь надо скрыться, у него есть надежное пристанище, где не найдут. Важно, чтобы младший не пошел по той же дорожке, потому что незрел еще, романтик, мало ли что в голову взбредет. Он знал, что тот ходит с финкой, но он трогал и его шестизарядный!.. Может, он и с ним ходил!
Я подумал, что Аслан накурился и морочит меня, но, оказывается, никакой тайны тут не было: это был не Аслан. Это был старший на четверть часа брат Аслана – Астамур, не столько владевший сейчас цехом, за которым присматривали надежные люди, сколько сидевший в данный момент в тюрьме. Воспользовавшись необыкновенным сходством, он обменялся в момент свидания с Асланом, чтобы сходить на дело. Все получилось очень удачно: сторож не убит, а только ранен, – но сейчас Астамуру надо уже очень торопиться, чтобы выпустить из камеры Аслана до смены караула, более надежного на менее надежный. Руки же у него отдавали керосином потому, что он только что зарыл свой «ТТ» в огороде, в ухоженную грядку с оружием, а ее приходится поливать керосином, чтобы не ржавело. Так он и обнаружил, занимаясь непривычным огородничеством, что Аслан роется в грядке тоже, а он так мечтал, чтобы Аслан поступил в сельхозинститут и остался настоящим крестьянином, и он так надеется теперь на меня…
И Астамур (если это был не Аслан) убежал в надежное пристанище, где его никто не станет искать, – «домой», во тьму и в тюрьму.
Тюрьма же находилась неподалеку, буквально километрах в двадцати, рядом с редчайшим на территории нашей страны христианским храмом, построенным «другом абхазского народа» императором Юстинианом в романском, естественно, стиле, VI или VII век, последние шестьдесят лет, конечно, не действовавшим. Рассказать о нем у нас еще будет печальный повод… Аслан появился на следующий день, по-видимому не догадываясь еще о нашем разговоре с его братом. Он был сильно возбужден и оттого еще более румян. Аслан напрямик предложил мне идти с ним на дело. Дело горит, а Миллион Помидоров в последний момент соскочил, а Сенек (это был летовавший в селе бич) не годится, забухал на кладбище с безутешными. Про великого человека по кликухе Миллион Помидоров потом, и про Сенька – потом, а сейчас мне было никак не справиться не только с Асланом, но и с ним, поскольку он, до того дремавший, тут же очнулся, встрепенулся и стал в это, не свое, дело рваться. Мне с трудом удалось расстроить их немедленное взаимопонимание, и если бы не разговор с Астамуром накануне – не знаю, как бы я удержал их обоих.
Прочтя размеренную нотацию, от которой сам чуть не уснул, я решил, что уже поздно до купания садиться за работу, и направился к морю. Я все еще с трудом удерживал его, продолжавшего рваться от меня к Аслану в немедленной жажде идти на дело, молотить вагоны. Я позволил ему даже больше обычного поглядеть на супружескую пару свиней, всегда трахавшихся в этот час у забора двора Зантариев-пятых. В нашей деревне, надо сказать, все были Зантария или Ануа и лишь чуть-чуть Гадлия. Зрение деловитой любви свиней, к которым он всегда питал необъяснимую мною симпатию, не только отвлекло его, но, на мой взгляд, и чересчур увлекло, и я повлек дальше, пытаясь отвлечь более умеренными и возвышенными картинами, возникавшими на нашем пути в разрывах листвы и синевы изо дня в день, в определенную минуту и час, как заведенные, не уставая и радуясь повторению, как дети: ровно в четверть пятого начинало щебетать гигантское тутовое дерево во дворе Гадлия – птицы объявляли закат, хотя солнце еще палило вовсю, но, по их сведениям, уже клонилось к. Ровно в половине пятого во двор Зантариев-тринадцатых возвращалась отбившаяся от стада, соскучившаяся по дому корова и, надыбав знакомую ей прореху в изгороди, проросшей колючим кустарником асапарели, о которой у нас тоже будет еще повод рассказать (на этот раз веселый), проникала в кукурузное поле, где ее к этому часу уже поджидала хозяйка… однако корова успевала прихватить два-три початка, не обращая ровно никакого внимания на побои, и еще – четвертый и пятый, пока хозяйка подбирала замену сломившейся палке. И ровно без четверти пять выходила в последнем дворе чистенькая старушка в трауре, неся на вытянутых сухих веточках рук прикрытое полотенцем хачапури, чтобы поставить его в уже успевшую прогореть к этому часу печку, стоявшую на краю газона. Почему печь на газоне?.. На фасаде была тщательно закреплена большая стеклянная вывеска, как на учреждении, изготовленная, по-видимому, по спецзаказу в столице Сухуми, в мастерской одного из Зантариев, промышлявшего вывесками для банков, школ и НИИ.
1880–1983
было начертано на вывеске без имени, потому что плата производилась побуквенно, а все здесь и так знали, кто умер, а родился-то тот, про кого здесь никто не знал, кто сказал: «Все чаще вижу смерть и улыбаюсь…» Умершая была свекровью той старушки, что как раз вставляла в этот момент лист хачапури в печь. Сколько же было тогда лет живой старушке? На вид не менее семидесяти пяти, но и не более ста пятидесяти. Проходя – в который раз! – не уставали и он и я представлять себе стотрехлетнего Александра Александровича Блока, нашедшего больше поэзии в том, чтобы ожидать смертного часа, подремывая на солнышке, чем в бессмертной поэме «Двенадцать»… А там уже, за ровесницей Блока и моей бабушки Алисы, кончались дворы и открывалось море, отделенное от деревни топкой черной полосой грязи, в которой с удовольствием лежал черный же буйвол…
Мы входили на пляж, и он ни за что не хотел лезть в воду, а потом – так же упорно – не хотел вылезать, зная, что после купания – всё, начиналась работа. В ней мы вдосталь занимались тем, что ему категорически запрещалось: поддавали с Павлом Петровичем.
Поэтому не мог я слишком уж осуждать его за то, что он без спросу напялил мои штаны и рванул напрямую, через кладбище, где под утро еще допивали на одной из могил безутешные друзья покойного, чтобы, правильно и четко сообразив это, успеть хватить с ними за упокой стаканчик и еще один до открытия магазина. Но тут жены стали выгонять коров и загонять домой хозяев, и мы с ним как раз подоспели к первому автобусу в Сухум.
Он сидел в моих новеньких, в обтяжечку белых джинсах нетерпеливо, на переднем сиденье как на коне, казалось, подгоняя автобус, но автобус, поскольку первый, подолгу повсюду стоял, поджидая постоянных своих клиентов с похрюкивающими мешками, и даже на то, что клиент сегодня не поедет, потому что его обещал прихватить Валико, друг зятя Зантария-семнадцатого, на своей машине, – на это тоже уходило не меньше времени, чем если бы клиент сел и поехал, тем более что он, возможно, все-таки передумал ехать с Валико и грузил-таки в наш автобус свои хрюкающие початки.
И пока он у меня ерзал и нервничал, я, еще по инерции ночного вдохновения, кое-что отмечал боковым, поплывшим от двух стаканчиков зрением: мирные, рассветные, непыльные картины: у природы нет похмелья… Но кто-то прилег на обочине так вольно, так расслабленно, на совсем холодном еще солнышке: красная рубаха, спутанные, показавшиеся почему-то такими русскими, и впрямь русые, кудри… что-то русское было и в позе. Автобус наконец отошел, и я почему-то забеспокоился об этом человеке. Что с ним?.. Никогда не узнаю уже – еду. А он – там. Остался сзади. Похож на Сенька, нашего бича, кормившегося по дворам, помогая убирать кукурузу… Он и у нас во дворе работал, молчаливый, костистый, всегда ласково улыбающийся закатной, западающей улыбкой. Нет, все-таки это был не Сенек… Да и был ли там вообще кто? В конце концов, он лишь мелькнул кровавым пятнышком на обочине – автобус уже отходил, не успел я толком рассмотреть. Однако по мере удаления тревога все росла, будто натягивая ту единственную нить, которая еще связывает с жизнью… Можно, можно было еще успеть остановить автобус, побежать назад, помочь, даже спасти… Ужас никем не отмеченного происшествия был странно знаком, странно сравним с неизъяснимым восторгом приближающегося вдохновения – строка еще не писанного никем стихотворения выплывала из слезного Тумана, увлажнялись глаза: