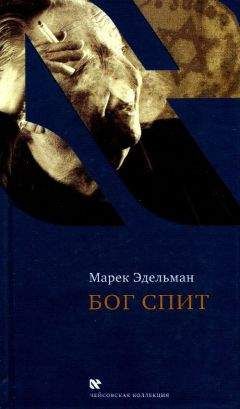– Но откуда вы знаете, что́ у этих парней в головах? Вдруг там нет ничего, кроме жажды наживы?
– Чего ради об этом волноваться? Снявши голову, по волосам не плачут.
– Широко шагаете… – пожал плечами отец Евмений. – Вам бы с верой малые дела вершить, а не революции устраивать.
– У нас своя вера. В разум мы верим и науку, там Бога больше, чем в ритуалах. Уж на месте топтаться мы точно не собираемся. Нужно двигаться, святой отец, стремиться вперед! Вот вы как плаваете – кролем? брассом? Главное в плавании – скольжение, стремление вперед, в этом залог стиля. То же и для самосознания: ему необходимо устремляться в будущее, нельзя оглядываться назад. Почему, скажите на милость, жена Лота обратилась в соляную статую?
– Она ослушалась заповеди Бога.
– Опять вы не смотрите в корень. А почему был установлен запрет на оглядку? Да потому что нельзя стоять на месте. Прошлое заразно!
– Ох, и ловко вы рассуждаете, – усмехнулся отец Евмений.
– Не сложней арифметики, – пожал плечами Турчин. – Взять, к примеру, нашего живописца. Вот кто дает нам пример добровольного порабощения и гибели через одну только несвободу от самого себя, от своих низменных желаний. Вот кто у нас жертва рабского состояния души и тела. Ждать нам от него особенно нечего, он даже муху прихлопнуть не способен, не то что выбросить в болото свою лягушку. Ничего не поделаешь! Если человек не понимает, что есть простые принципы, основанные на силе воли и здравом смысле, следуя которым можно привести себя к деятельному сотрудничеству с мирозданием, то свою голову ему не пересадишь. Горбатого могила исправит.
– Гордый вы человек, Яков Борисович, простите меня за прямоту, – тяжело вздохнул священник. – И гордитесь вы не перед кем-то, а перед собой.
– Кто? Я? Да я агнец чистый, кротость моя чрезмерна даже для эмпиреев, помилуйте. Любой другой на моем месте давно бы уже подался в тираны или начальники. Или возглавил этих робингудов… А вы в самом деле думаете, что я отравлен гордыней?
– Немножко есть, – смущаясь, сказал священник. – Но вы добрый человек, и это главное. Доброта всё смоет. Однако жив человек не намерениями, а поступками…
– И что, – перебил озадаченный Турчин, – по-вашему, я должен извиниться перед Соломиным?
– Прощения попросить никогда не вредно. Я у него сам хочу просить.
– Вы-то перед ним чем провинились?
– Недеянием…
Тут в больничную библиотеку вошел Дубровин и, приоткрыв окошко, стал раскуривать трубку.
– Соломин не являлся? – спросил доктор, хлюпая забитым смолой мундштуком.
– А должен был? – спросил Турчин.
– Беспокойно за него что-то. Зря ты его вчера мучил. К чему?
– Да что вы на меня все напали? Переживет, никуда не денется. Правда глаза колет, но не выкалывает. Вернется его краля, глядишь, к концу недели у них уже снова любовь да морковь.
За окном начинался дождь; набежала особенно лиловая туча, стемнело, и Турчин протянул руку и зажег лампу.
– Вы не могли бы съездить к Шиленскому? – обратился к Дубровину отец Евмений.
– Это еще зачем? – удивился Турчин.
Дубровин поправил очки и молча выпустил струйку дыма.
– Не знаю сам… – сказал священник. – Болит у меня сердце за Петра Андреича.
– Шиленский не тот человек, с которым можно говорить по душам, – сказал Дубровин. – Давеча я был у него, и снова к нему ехать хлопотать… о чем?
Небо дрогнуло молнией, и раздался близкий трескучий гром.
– Сейчас ливанет! – сказал Турчин. – Переживать нечего, Левитан ваш с лягушкой своей наверняка уже дома.
– Не поеду я никуда, – сказал Дубровин. – Надо оставить человека в покое. Что мы лезем к нему, как в коммуне?
Утром он был у Соломина, пил с ним чай и пытался ободрить, журил в шутку, что тот слишком серьезно принимает происходящее. Соломин сидел перед ним со странным стеклянистым взглядом, погруженный в тяжелое созерцание и одновременно чем-то обеспокоенный. Художник почти не слышал его, и Дубровин, надеявшийся до своего прихода, что Катя вернулась и теперь он сможет поговорить с ней, внести свою миротворческую лепту, понял, что она всё еще где-то куролесит. Выйдя от Соломина, он решился позвонить Шиленскому, но телефон того был отключен, а на автоответчик записывать сообщение он не стал.
– Не надо лезть человеку в душу, – повторил Дубровин. – Надо отпустить ситуацию, дать ему переварить ее, пусть залижет раны. Только я всё равно не понимаю, зачем ты ему на вид поставил таможенника этого? Неведение – иногда лучшее снадобье. Зачем?
– Я предложил ему встретиться наконец с самим собой. Часто люди живут до самой смерти и себя не знают. И тогда они живут во сне и сон свой навязывают другим. А я не хочу жить в летаргическом сне сомнительного Левитана, даже своему собственному сну я предпочту действительность. Впрочем, хватит об этом. Для меня это дело решенное.
Вдруг дождь обратился в ливень, и водосточная труба загудела и захлебнулась от хлынувшего в нее потока. Дубровин прикрыл окно.
– Ну и потоп! – сказал отец Евмений. – Хотел было идти уже, теперь переждать придется.
Выпили кофе. Дубровин положил перед собой лист бумаги и стал авторучкой вычищать на него трубку.
– И всё равно… мне неспокойно, – вздохнул старый доктор.
– Оснований для волнения нет, – сказал Турчин, беря его за плечо. – Скоро они утихомирятся оба. Он свезет ее на Казанский вокзал, а она, может, через месяц или два вернется к нему вся в синяках и грязи. Но тут уж я лично сопровожу ее куда-нибудь подальше, на еще какой-нибудь вокзал, в Орел, скажем. Авось там сама и отсохнет. Кстати, а не знаешь ли ты, есть у нее какой-то документ, подтверждающий личность?..
– Тебе зачем?
– Не для чего, в общем-то. Скоро от нее один только паспорт останется. А если и его нет в природе, то…
– Живодер ты, Яша.
– Нет, я просто честный человек.
Сверкнула молния и осветила перепуганную кошку, прятавшуюся от непогоды под балконом первого этажа хирургического отделения.
Ливень ослабел внезапно, лишь в тишине вода хлестала из водостоков.
После ухода Дубровина Соломин несколько часов просидел на одном месте, глядя на то, как сороки ссорятся, перелетают по деревьям и крышам, садятся на забор, снова куда-то улетают и снова возвращаются. Листья в саду почти уже облетели, ковры девичьего винограда покраснели и стали просвечивать, в воздухе протяжно тянулись последние паутинные паруса.
Соломин вспомнил, что в юности его очень успокаивало шитье. На первых курсах института он любил водные походы, и баулы для транспортировки разборных катамаранов приходилось шить цыганскими иглами с дратвой из брезентовых полотнищ. Он достал две простыни и сшил их вместе мелким крепким стежком в две нитки. После этого залез в образовавшийся мешок и подумал: «Мне мал, а ей как раз».
Он снова сел к окну и стал смотреть на птиц, теперь хорошо заметных в облетевшем саду. Убьет ли он себя или ему удастся после задуманного выжить, совершенно неважно. В случае если он сумеет пережить задуманное, тюрьма его не страшила: у него был перед глазами пример Сыща, способного в заключении читать, писать, существовать; Соломин вспомнил, что на последнем свидании Сыщ выглядел даже бодрым, худоба была ему к лицу. А если станет невмоготу, он всегда найдет возможность закруглить весь этот концерт…
Придя к решению, он понемногу стал успокаиваться, и наконец слабая жила некой ясности пробилась сквозь завалившие его горы горя. Увлекавшая бездна стала еще черней, но более он не сопротивлялся падению. Когда же поднялся на стремянку и открыл тайник, замаскированный под вентиляционную отдушину, блеснула молния, и все пять высоких окон ослепли молочным бельмом. Ему стало не по себе, и, видя, как закланялись в саду под ветром старые яблони, как замотались в плетях дождя мокрые ветки, на которых только что прыгали птицы, он вынул пистолет из ниши и стал спускаться по стремянке, с неловкостью нащупывая, будто во сне, каждую следующую ступеньку.
Соломин понимал, что время перед смертью священно. Оно не должно быть растрачено зря: тут полагается совершить что-то особенное, важное, подумать о чем-то значительном, что до сих пор не приходило в голову, обдумать всё с точки зрения прожитого, исполненного, достигнутого, взвесить количество горестей и счастья, благословить или отвергнуть мир… Соломин сел за стол, развернул тряпку, положил перед собой пистолет и попробовал сосредоточиться.
Он стал рассуждать понемногу и понял, что у него нет никаких особенных, под стать моменту мыслей, но что его невеликая жизнь все-таки ценна чем-то важным. Его стремление разгадать Левитана хоть отчасти и смехотворно, но в нем, пожалуй, ничуть не меньше смысла, чем в честном труде инженера, учителя, фермера. Его желание разгадать тайну красоты, которая кроется в пейзаже, – ничуть не менее важная задача, чем географические, геологические исследования… Затем он спросил себя, кому бы он хотел написать перед смертью? Родители давно умерли… Дубровину? Священнику? Сыщу? Сестре? Что бы он хотел сказать им? Он встал, вырвал из альбома лист и написал дрожащей рукой: «Владимир Семенович! Простите, что обращаюсь к вам с этой запиской…» Соломин хотел извиниться за неудобства, за то, что навязывался с разговорами… Но более он ничего не находил нужным сказать. Написать священнику? Благословить «мир без меня»?.. При мысли о сестре ему захотелось написать что-то обидное, из чего следовало бы, что именно из-за нее произошло то, что произойдет. Он перевернул лист и вывел: «Наташа!» Но тут он представил, как она прочтет и порвет записку, смахнет слезу, поджав губы, и с ненавистью посмотрит в окно…