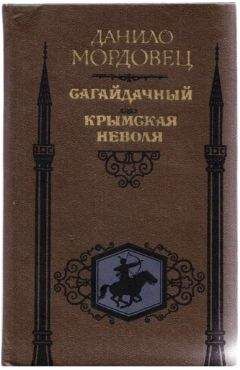Смотрю, ворона прилетела. Наша, сретенская. На столб плюхнулась. Гордо вскинув испачканный в чём-то тёмно-зелёном клюв, в небо косо, будто на коршуна, смотрит, но на самом деле наблюдает за пиршеством кошек. Всем своим видом, прежде всего рассчитанным, конечно, на меня, а не на кошек, знать даёт: мол, захотела – прилетела, где, мол, хочу, там и сижу. Сиди уж, ладно, кто-то будто гонит. Ещё вдруг каркнула зачем-то – не на меня ли?
Сердце давит – маму жалко. Чем поможешь? В том и беда, что ничем. Моё сочувствие ей сил моих не передаст. Побыть лишь рядом.
Вернулся в дом.
– Кошкам налил? – спрашивает мама, услышав или узнав по дёрнувшейся шторе, что я вошёл.
– Налил! – отвечаю.
– Голодные… Ну, а подойник я ополосну.
– Я, мама, сам ополосну!
– Еслив не трудно.
– Сразу забыл… задумался… о кошках.
– Ковшик?.. Я не брала его. В подсобке, может…
– Я говорю: задумался о кошках!
– Про кошек он. А я – про ковшик… То всё ходить мне… Днём-то обсохнет, может, дак тогда.
– Да не заботься.
– Не заботься… Убил бы несколько хошь, что ли… Или бы в лес увёз и там бы их оставил.
– Проси Васюху.
– Тот такой же, стой на тебя.
Вышел из дому, зачерпнув в подсобке из котла, нагретой для управы водой ополоснул подойник, опрокинул его в ограде на столе, на котором мама моет и оставляет просыхать банки. Сделал всё так, как делает она.
Наколов под навесом дров, вернулся в избу. Подступил к маме. Плачет она, обиженная на себя, на свою немощь, без слёз, одним лишь подбородком.
– Мама, – говорю.
– Вот так, сыночек, – говорит. – Ишь, до каких мне пор пришлось дожить… уже за воздух спотыкаюсь.
– И я такой же, – говорю, – буду… Доживу если. – Ладно, что кости-то хошь целы, не сломала…
Доживёшь, – говорит. – Куда денешься. Это уж я-то лишнего немного прихватила.
– Мама, не надо.
– Ну, не буду.
– Тут чужого не прихватишь. Сколько назначено.
– Я понимаю.
– Чай, – говорю, – поставлю, заварю.
– Не моя на то воля… Зачем-то держит… Поставь, – говорит. – Завари… Да ты поел бы чё-нибудь.
– Нет, – говорю. – Пока не хочется.
– Ему не хочется. И плохо… Ну, молока бы хошь… – Я уже выпил.
– Ох, и обманывашь старуху?
– Обманываю, – признаюсь.
– Знаю, что так. Когда успел бы… Можешь яичницу себе поджарить.
– Нет, не хочу.
– Какой противный… Ну, чайник ставь… Приду, вот тока отсижусь. Щека болит – синяк под глазом будет… так садануться. Господи, помилуй.
Заварил я чай – напревает. Сижу за столом. В окно гляжу.
Кошек в ограде уже нет. Дел у них, у каждой, много – по всей окрестности разбрелись, сытые. Сердится ворона на пустую сковородку: перевернув как-то, долбит громко по ней клювом; в мою сторону не смотрит.
С бельевой верёвки, раскачиваемой ветром, срываются редкие капли – в мураву падают беззвучно.
Всё озарилось – солнце всходит.
Помылась мама под рукомойником, переоделась в чистые кофту и юбку, вышла в прихожую. В платке нарядном.
Пьём чай. Я – пустой. Мама – с сахаром и с корочкой ржаного хлеба, размачивая её в кипятке.
– Смейся, смейся, – говорит. – Просмешник. И ты когда-нибудь беззубым будешь.
– Я не над этим, – говорю. – Так, что-то… вспомнил.
– Я и не знаю… Надо мной… Вот и день… Тебе и осень, – говорит. – Это – по новому, по старому – ещё нескоро. Чай-то один, даже без сахару – и хорошо?
– А что?.. Нормально.
– Чё уж нормального?.. Взял тоже моду… Поел бы чё-нибудь, а, Ваня?
– Да не могу я, не хочу.
– Вредный какой. Ну, вот хошь с хлебом.
– Проголодаюсь как, тогда.
– В печи томлёная картошка, и молоко остынет скоро.
– Когда остынет, и попью.
– Ты непутёвый у меня, Ванюха.
– Какого вырастила.
– Да уж… Было лето, – говорит, – прошло, и не заметили… Так вот вся жизь.
– Чернушу, – спрашиваю, – выпустить?
– Будто и не жила… Рано ещё… Я выпущу сама.
Орать тут будет, всё кругом удришшет.
– Мне надо съездить, – говорю.
– Куда опять?
– На Кудыкину гору.
– Давай, отчитывайся.
– Сначала – в Ялань, а потом – в Волчий бор.
Тебе всё надо знать?
– А как же… А в Волчий бор зачем?.. Рыбачить?.. Рыба же есть, и вон Володина… Ты мне отрежь кусочек, отварю я.
– Ладно.
– И для себя.
– А я потом поем, сырую.
– На соль-то пробовал?
– Нормально.
– Как пожелаешь… Дак ты в Ялань-то чё повадился?.. Не к однокласснице своей?.. Как её?.. Вера. Забываю. Её родителей-то знала.
– Вера, – говорю. – Она в Томске.
– Долго приехать ей… Списались… Мать-то жива её?
– Не знаю.
– Она ж меня моложе, и намного. Отец-то умер… Дак ты не к ней, не к этой Вере?
– Нет, – говорю, – не к ней. Я же сказал, что она в Томске.
– Не нужно… к старому-то возвращаться.
– Не возвращаюсь.
– Ну, вот и ладно. Раз уж женат-то на другой…
А когда, – спрашивает, – вернёшься?
– В два… или в три. Если с машиной не случится что-нибудь… Потом опять уеду. В город.
– А в город чё?
– Ну, мама, надо.
– Надо, так надо. Поезжай.
– Ты уж тут, – спрашиваю, – подоишь как-нибудь?
– И мне, как малой, знать всё интересно… Станешь когда старым, таким же будешь любопытным.
– Не буду.
– Будешь… Человек два раза в жизни глупый – старый да малый, хочет он этого или не хочет… Подою, – говорит. – Чё уж не подою… Я же без вас справляюсь как-то.
– Не обижайся.
– Обижайся… Мне обижаться, Ваня, не за что.
На вас – и вовсе… И на обиженных, милый, воду возят, – заулыбалась, наконец-то. Мне сразу легче сделалось от этого. – Если уж я совсем-то перестану шевелиться, чё со мной будет?.. Нельзя сидеть, мне надо двигаться. А только сяду, рой могилу…
– Да ты и так… как заведённая.
– Как заведённая. Наскажешь… Раньше была такой, теперь-то чё уж… Будто гвоздём проткнули – дух весь вышел.
– А завтра, – говорю, – и послезавтра никуда. И здесь пока, из дому ни на шаг.
– Посмотрим. – Обещаю.
– Знаем мы ваши обещания.
– Честное слово.
– Рыбака.
– И пионера… Ну, – говорю, вставая из-за стола, – спасибо, Василиса Макеевна.
– За одну воду-то…
– За чай и за компанию.
– На здоровье, Иван Васильевич. Так ты во сколько, мне сказал, приедешь?
– В два или в три.
– Уж и забыла… Днём?
– Днём… Потом опять уеду, – говорю. – И допоздна уж.
– Ну, понятно.
Пошёл я за курткой, и телефон зазвонил. Снял трубку. «Котельная?» – спрашивают.
– Нет, – говорю. – Ошиблись, – трубку положил.
Мама не слышала, что и звонили; в окно глядела – и не видела.
– Слава Богу, – говорит, – очередь отвела. – Отвернулась от окна, перекрестилась и, вытирая после уголком белого цветастого платка рот, продолжает: – Лук, может, вырву, но не весь, на весь-то сил не наберусь… когда обдует да обыгает маленько.
– Не надо, мама, – говорю. – Я завтра вырву…
– Пока погода-то…
– А может, и сегодня.
– Её не выберешь, эту погоду… Да я сама жива пока, хошь и расшиблась… Щека припухла вон… Припухла?
– Да вроде нет.
– Да чувствую – припухла… Ну, начинает припухать… свет заслоняет глазу. Не обманешь.
– До свадьбы, – говорю, – заживёт.
– Заживёт, – говорит мама. – Как на собаке. Достал из холодильника стерлядку, отрезал кусок.
– Вот, – говорю, – отваривай.
– Синяк появится, до крови не разбила… Да много мне, отрезал бы поменьше.
– Ешь на здоровье.
– Спасибо. Это в обед уж я отпробую… Тебя ругаю, сама-то тоже не хочу, нет никакого аппетиту.
Убрал рыбину в морозилку, холодильник закрыл.
– Там же ещё и шшука где-то оставалась. Завтра шарбу, может, сварю.
Опять телефон зазвонил. Снял трубку. «Котельная?» – спрашивают.
– Нет, – отвечаю.
Мужик какой-то в трубке матерно ругнулся – то ли на меня, то ли на связь, то ли на самого себя.
– Кто там? – интересуется мама. – Не Васюха?
– Нет, – говорю. – Ошиблись.
– Опять ошиблись… Всё ошибаются пошто-то. – После дождя, – говорю, – плохо наш телефон работает обычно – соединяет как и с кем попало.
– Где чё упало?
– Как попало!
– Ах, как попало… Ясно, ясно. Васюха сёдни не звонил?
– Нет, не звонил.
– Давно уж чё-то…
– Ну, я поехал, – говорю.
– Чё? – спрашивает.
– Поехал, – говорю. – Ясно?
– Ясно – лошадь, раз рога, – говорит мама. – Ну, давай. С Богом… Да, смотри мне, шибко-то не разгоняйся.
– Ладно.
– Кошек бы взял с собой, хошь штуки три.
– Нет, не возьму. Не успеваю. Их же поймать ещё… А как?
– Всё бы убавил… В лесу бы выпустил, убить не можешь.
– Они вернутся.
– Какую, может, зверь задавит, съест, и не вернётся… какая, может, пропадёт.
Надев куртку, взялся за ручку двери. Гляжу на маму, говорю ей:
– Ты не скучай тут. Хорошо?
– Хорошо, – отвечает. – Дел полно – не заскучаешь. Не езди долго.
– Постараюсь.
– Уж постарайся.
Обувшись в сенцах, вышел на крыльцо. Хоть рано утром я и сметал веником с него дождевую воду, но плахи мокрые ещё, солнце, глаза слепя, на них сверкает. Конь мамин лежит. Уронило, наверное, ветром. К перилам, возле самой двери, чтобы он снова не упал, его пристроил. Мама вый дет, вот он, рядом.