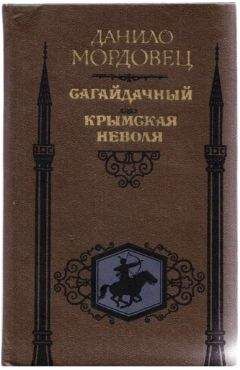– Мы с тобой оба хороши, – говорит мама. – Два сапога – пара… Васюха – мягкий, безответный… Потом проверишь: может, где оставила… слепая.
– Проверю.
– Ветер был – тепло оделась, сижу – сопрела, – говорит.
– Тепло такое, – говорю. – Конечно.
– Как водяная крыса, мокрая… Утих маленько… Это тебе тепло, а мне-то, старой… Легко оденься, дак продует… Идём обедать. Подсохнет чуть, потом доделаешь. Земля сырая… Ты будешь работать, – говорит, с ведра вставая кое-как, – а я, барыня, после обеда отдыхать буду. Коня подай-ка… вон у меня он, в грядку-то воткнутый… Ну, не подай, так подведи.
Подал ей палку. В дом пошли.
– А ты как съездил?
– Да нормально.
– У нас иначе не быват… всегда нормально. – Так и не спрашивай.
– Дак интересно.
– Интересно… А любопытной-то Варваре… – Я не Варвара.
– Но нос-то можно оторвать…
– И уж язык бы вырвать заодно.
Шарбу мама, положив в неё вместе со щучиной заодно и кусок стерляди для себя, сварила.
Вкусно.
– Лавровый лист забыла кинуть.
– И без лаврового сойдёт.
– Сойдёт, конечно… Чё одна рыба только стоит. Спасибо другу твоему.
И о рыбе, и о Чернуше, обедая, поговорили. Не без этого.
– Дойки ей солидолом смазала, дак вроде лутше.
– Ну, хорошо, что помогло.
– Ещё с моими-то руками… И ей же больно – не даётся.
Попили чаю.
– Ну, слава Богу, – говорит после мама, – за хлеб, за рыбу… Я полежу, а ты ступай, трудись, родной, раз обещал мне.
– Куда ж я денусь, обещал раз.
Пошёл в огород. Лук, что мама не успела, вырвал, обрезал и перетаскал его в ведре за три ходки в подсобку, раскидал там по полу, чтобы проветривался, так, как наказано мне было, не подчинись тут.
Сходил в дом, половики и коврики, вчера ещё мамой собранные с полу и оставленные штабелем возле двери, в охапку взяв, вынес их за ворота, кучей на лавочке пристроил. Выхлопав, в дом занёс и положил их на диване.
Мама уже на ногах, посуду моет на кухне. – Завтра уж, – говорю, – застилать будем.
– Каво? – спрашивает.
– Половики похлопал! – громче говорю.
– Да?
– Застилать, наверное, уж завтра будем?!
– Ну, уж не сёдня, – говорит.
– И я так думаю: не сёдня.
– Полы подмести в избах да помыть ещё надо…
Сёдня и без того полно работы… И вот ещё, чуть не забыла. Ваня, время как выберешь, будь добр, перетаскай с поленницы дрова в ограду под навес, то под дождём всё лето были… худо, топлю-то, разгораются.
– Сколько успею, – говорю. – Мне скоро ехать. – Сколько успеешь.
Перетаскал поленницу, успел.
Чтобы не будить, когда вернусь домой, маму, открыл, сняв крючок, на веранде окно. Может, она, мама, и закроет, если перед сном пойдёт проверять и увидит, а может, и забудет.
Собрался ехать.
– Мама, – говорю. – Не жди меня до ночи, ложись спать.
– Не жди, мама, сына… как в песне-то?.. Да как смогу я?
– А ты смоги. Приеду поздно.
– Ну, как приедешь, дак стучись!
– Ладно, – говорю, – постучусь.
– Тока уж шибче.
– Хорошо.
– То не услышу, разосплюсь-то… Чё-то разъездился ты нонче…
– Ну, мама, надо. Всё нормально.
– Ну, хорошо, еслив нормально.
Смотрю на часы: половина пятого.
– Пора мне, – говорю.
– Ну, с Богом, милый, – отвечает.
Вышел на улицу.
В машину сел, завёл её.
Отправился.
Словно на крыльях.
К дому-крестовику в Ялани, ставшему вдруг за эти дни мне как родным, подъехал.
Посигналил.
Вышла из ограды Маша. В той же куртке, в которой была, но уже в сине-белых полукедах, в серых джинсах. Всё ей к лицу, всё ей к фигуре.
«Маша».
И имя это, выделившись среди прочих, стало мне близким вдруг. Произносить его отрадно:
– Маша.
И где-то там стоит за ним: «Мария».
Съездили на Кемь. На яру, под старым кедром, на скамейке посидели.
К реке спустились.
Кружка зелёная висит на колышке.
– А пить тут можно? – спрашивает Маша. – Конечно, можно, – говорю.
Попили.
– Вода холодная.
– Да ну уж. Я бы ещё раз искупалась.
– Так искупайся.
– Нет. Не в форме.
В яр поднялись.
Глядя на кедр, спрашивает Маша:
– Это сосна такая толстая?
– Нет, это – кедр, – отвечаю.
– Я кедр видела, он не такой.
– Ладно, сосна сибирская. У нас он – кедр.
– А я не против.
– На том спасибо… У нас многое по-своему называется. Иначе, чем… ну, в Петербурге, где ты жила.
– Да, я заметила, – говорит Маша.
– В школе учился здесь, мы вечерами часто тут бывали, – говорю. – Весной особенно. Когда лёд трогался, ломался; вода тот берег заливала, тальник скрывала… Не только мы, дети, но и взрослые и даже старики посмотреть приходили, народу много собиралось. Зрелище потрясаю щее. Правда. Льдина на льдину наползает, стеной встаёт… Шум до небес, тайга гудит по всей округе.
– Красиво, – говорит Маша. – Я представляю.
– После зимы-то… необычно.
Времени мало – поджимает.
– Пора?
– Пора.
Вернулись к дому.
Ушла Маша. Молча.
Сижу в машине. Жду.
Сердце моё стучит как, слышу; бьётся.
Такт – от тоски, рывок – от радости… Раньше за ним такого вроде не водилось, за этим сердцем. Или не помню. Вряд ли – сердечное не забывается.
Включил приёмник, ручку настройки покрутил – больше шипит да кое-где щебечет по-китайски. Выключил.
Пыль скопилась на панели – тряпку из бардачка достал, стал вытирать, и… вижу:
Вышла Маша из ограды. Возле ворот остановилась. Как под софитами – на ярком солнце – то, что вокруг неё, не замечаю. В красивом, длинном, по щиколотку, голубом, под цвет неба, платье, с коротким рукавом. С узеньким поясом на тонкой талии. В голубых, в тон платью, туфлях, без каблука. Волосы заплетены в косу, перекинута коса на грудь. Руки опущены, ладонями прижаты к бёдрам.
Смотрит на меня Маша. Улыбается.
А у меня дыхание перехватило. Глотаю что-то – не сглотнуть.
Вышел из машины. Гляжу – не оторваться. Повернулась Маша. Ушла.
Вернулась через какое-то время. В прежней одежде, в полукедах. И уже с сумкой на плече.
Пошёл ей навстречу, взял сумку, положил её на заднее сидение.
– Я дверь закрыла на замок, – говорит Маша.
– Правильно, – говорю, осознавая или нет, что говорю, ещё под сильным впечатлением.
– А ключ схоронила в указанном месте, – говорит Маша. – Над дверью. – Руку подняла – как положила – показала.
– Хорошо, – говорю. – А велосипед? – спрашиваю.
– Я, – говорит Маша, – оставила его Володиным дочкам. Были у меня они сегодня рано утром, познакомились. Девочки славные, понравились мне очень.
– Да, замечательные, – говорю.
– Бутылку водки, ту, что не допили мы… Там, на столе, поставила. Нормально? – спрашивает Маша.
– Ну да, нормально, – отвечаю.
– А что неполная?
– Как получилось… С Володей выпьем за тебя, к нему заеду.
– Согласна. Я это как-нибудь узнаю?
– Почувствуешь.
– Почувствую… Конечно… Ну что, поехали?
– Поехали.
Едем. Разговариваем. О Православии. О Сербии и о России. Про войну в бывшей Югославии рассказывает Маша. Про натовские бомбёжки. Я – про развал Советского Союза.
Ещё – о разном.
– Интересно, – говорит Маша. – У вас, вот у Володи с Таней вчера было как, мёд, удивилась, к чаю подают.
– А у вас? – спрашиваю.
– А у нас – после чая.
– Да? Я не знал. На самом деле, интересно.
– Значит, немножко мы другие… хоть и славяне.
– В этом пусть будем разные, и замечательно.
– Но зато в церкви – как одни.
– Тебе виднее.
На развилке, где одна дорога ведёт в Усть-Кемь и в Старицу, а другая – в Елисейск, остановили нас гаишники. Документы проверили. Меня и машину, не обращая внимания на Машу, внимательно осмотрели. Не объясняя ничего, сказали только: всё, мол, в порядке, дальше можем следовать; дескать, счастливого пути. Какой-то рейд, кого-то ищут. К счастью, не нас. Отправились мы дальше.
В город въехали.
Старинный – так говорят о нём. Раньше – уездный, а теперь – районный.
Входил когда-то он в десятку лучших городов России. Теперь – хиреет. Может, и к лучшему оно: своё лицо, пусть и стареющее, не теряет, молодое, но чужое или стандартное, не обретает; пока обходится без пластиковой операции. Многокупольный. Кресты сверкают – день погожий. Дома в основном деревянные, почерневшие от возраста, с крутыми четырёхскатными крышами, с резными карнизами и наличниками, голубого больше цвета. С той ещё, дореволюционной, эпохи чудом сохранились. Есть и советское – ну как везде – и брусовое, и кирпичное – такой весь север. И новорусское – запас не мой, словами пользуюсь Василия – редко ещё, ближе к окраинам, но широко и высоко торчит, выпячивается. Жили и воздвигали, как в угаре. Кто-то успел – достроил, кто-то нет – убили, умер или сел. Кто-то – совсем уж мало кто пока – в сайдинг упаковал своё жильё, это – крутые. Василий злится: «Город портят». Но не взрывать же, не сдирать. Станет историей и это.