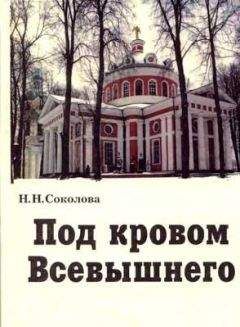Вера слушала и не слышала – а просто любовалась им: такой он стоял перед ней ловкий, подтянутый – ни единой складочки лишней на форме, гладко выбритый, невероятно худой, немного еще – и был бы совсем не виден в профиль, а чуб свой длинный, косо уходящий на очень коротко подстриженную макушку, подбрасывал Николай то и дело, гордо вскидывая голову – ну как есть настоящая Белокурая Бестия.
– «Верочка, ты все поняла?» – пытливо всматриваясь в рассеянное какое-то, уклоняющееся от прямого взгляда лицо подруги, Николай обеими руками взял Веру за плечи, прижал к себе крепко-крепко, но не поцеловал – с сожалением оторвался от все кивающей согласно Верочки, поправил фуражку, весело полыхнул синим пламенем огромных глаз из-под козырька, потом вскочил на высоко отстоявшую от края платформы подножку, какое-то время постоял еще на верхней ступеньке рядом с проводником – и нырнул вглубь вагона.
Медленно, но верно набирая скорость, дымящий паровоз сдвинул разом, с жутким скрежетом, все вагоны отходившего с московского Ленинградского вокзала поезда в северную сторону – и Вера осталась одна.
И сразу же стало ей ужасно грустно, просто тоскливо даже…
Но грусть ее долгой быть не имела права – ведь уже завтра вечером – вдогонку Николаю – и сама она поедет в славный город Ленинград – а если по – московски, так в Питер, – но, конечно же, не на давно уже прошедший «Октябрьский парад», а на встречу Нового года и, соответственно, – что и было, в общем-то, главным поводом, – на празднование двадцатитрехлетия своего любимого «Николая Второго», – как называла его Вера, но только про себя и при подругах, – которого угораздило родиться точно в ночь на первое января.
Николай Андреевич не смог «поприсутствовать» на проводах в армию «Николая Первого» на ноябрьские праздники по уважительной причине – не дали увольнительной.
Зато сейчас разрешили ему «по делам службы» оформить командировку в родной город – «в Санктъ-Петербургъ», как до сих пор еще писала ему на редких поздравительных открытках в «адресе отправителя» старая – «из бывших» – хозяйка его ленинградо-питерской коммуналки Елизавета Ермолаевна Владимирская, по бывшему мужу – Радзиевская.
Вручая эти открытки с краткими, но все-таки старомодно-витиеватыми поздравлениями и неизменными пожеланиями «доброго здравия и процветания» от «ЛизОчка» – так все в квартире звали чудаковатую старуху – «товарищи с почты» и младшие командиры постоянно внушали Николаю Андреевичу, чтобы он «прекратил это безобразие с обратным адресом и довел до сведения пишущей правильное современное написание!».
– «То есть, без твердых знаков, что ли?» – так и подмывало спросить у компетентных товарищей.
Николай представлял себе, не умея сдержать улыбку, выражение лица ЛизОчка: когда кто-нибудь «делал замечания в ее адрес», она смотрела на него точно так, как на выползшего вдруг среди бела дня на стену отвратительно надутого людской кровью огромного клопа – и как она, обожаемая его Лизочек, начнет после этого испепеляющего и навсегда отработанного по технике и продолжительности взгляда, часто-часто обмахивать лицо своим древним и непременным костяным веером с изрядно потускневшими, но все еще прекрасными, изображавшими светскую жизнь нежных маркиз и пастушкОв, расписными ветхими пластинами, правда, невосполнимо утерянными уже во многих местах…
А потом старуха величественно развернется и уйдет «прочь!», выкинув изящно вперед и вверх кисть правой руки и запев глубоким и сильным контральто заученную ею еще в далеком дореволюционном детстве фортепианную пьеску про себя: «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал!..»
Николай Андреевич всем существованием и воспитанием своим обязан был Лизку – любимейшей соседке и тайной его крестной матери.
Он назвал ее, как умел, – как только научился говорить – «Крёня», как-то услышав от своей родной и единственной тетушки Инны Антоновны, сестры отца, взявшей его на воспитание и заменившей ему умерших родителей, что, оказывается, «баба Лиза – его крестная!»
И этой своей много раз повторяемой «Крёней» едва и впрямь не «подвел под монастырь» Елизавету Ермолаевну, торжественно-женственную и импозантную, как настоящая «императрикс Елисафет Петровна».
А говорить Коля начал – может, заново – или и вовсе впервые? – только в восемь своих лет.
Мать, отец и двое младших братьев Николая умерли от голода в старинном немецком поселении в Саратовской области в период рассвета – то есть в самый разгар – коллективизации.
Приехавшая из Ленинграда хоть как-то помочь Инна, младшая сестра отца, опоздала – и забрала с собой в город единственного уцелевшего и все время молчащего – видимо, глухонемого, – старшего племянника – пяти или шести лет, тетка Инна Антоновна помнила только, что родился он на Новый – но не то 26, не то 27-й – год, как сообщал ей тогда брат, Андрей Антонович, в поздравлении с Рождеством…
А дальше по жизни ребенок был просто передан спасшей его родной теткой на руки ее соседям.
Главной «сиделицей» с этим ангельского вида немым мальчиком стала Лизок.
* * *
Судьба Елизаветы Ермолаевны, дочери небогатого, но весьма зажиточного столичного акцизного чиновника и потомственной, – правда, третьей гильдии, – купчихи, «из бывших крепостных крестьян» из петербургского пригорода Колпино, забросила ее с родителями, благодаря служебному положению отца – в самом начале юности девушки – и в самом конце переломного девятнадцатого века, – в Польшу, в Варшаву, как оказалось, на долгие годы…
В тамошней гимназии отличница-Лизок вскоре обрела близкую подругу, очень начитанную, трепетную, но вместе с тем решительную девушку, чей старший брат и все его друзья ненавидели «вшистко российское и пшкелентое», то есть, все русское и проклятое, и поначалу, когда Елизавета – девушка, только что прибывшая из столицы Великорусской Империи – прямо из центра угнетения бедных поляков, – впервые пришла в гости к новой знакомой, ее избегали все, кроме старого и вдового отца варшавской подруги.
Но со временем, узнав смешливую и весьма неглупую петербурженку поближе, а также поняв, что Елизавета никоим образом не соответствует определениям «враг» или, хуже того, «предатель», молодые люди из едва знакомой, но уже прекрасной по произведенному первому впечатлению польской столицы если и не приняли Лизка полностью в свой круг, а может, даже и «кружок», то во всяком случае постарались использовать ее в своих благородных целях, «нещадно эксплуатируя» при этом связи и возможности ее родителей.
На свою беду Лизу угораздило страстно влюбиться в брата подруги.
А тот, как назло, оказался невменяемым аскетом и борцом за идею.
К тому же в дальнейшем выяснилось, что идейность его имела крепкие корни.
А вернее, один – но самый крепкий – потому что брат был тайно связан любовью со своим главным и великим идеологом, – проживавшим, однако, безвыездно в Париже.
И Лизку не скоро еще удалось бы избавиться от своих – увы, уже стародевических – заблуждений и порывов оказания бескорыстной «помощи народу» благодаря родительским деньгам, если бы не эта трагическая информация.
В очередной раз вернувшись из поездки в Париж, брат подруги первой в своем доме встретил Лизу, которая так трогательно-просяще и радостно-возбужденно вскинулась при виде своего кумира, что тот не выдержал, бросил вещи в прихожей, схватил Лизу за руки и потащил в свою комнату.
А там признался ей, как он несчастен, – потому что любовь его осталась на сей «заезд» к французам безответной – боготворимый им гений передовой польской мысли элементарно переключился на одну путешествующую в одиночестве и весьма состоятельную американку, женился и тут же отбыл с ней за океан…
Лизок была не просто потрясена – она чувствовала себя дважды преданной.
Изменник не только растоптал ее чувство – он коварно и изуверски-примитивно опошлил ее отношение к жизни и к тому романтическому флеру в ней, о чем обычно повествовали, закатив в полном экстазе глаза, все ее подруги – и к той непостижимой умом тайне, что происходила в идиллических сладких романах про любовь между мужчиной и женщиной.
Всяческие сношения с семейством подруги были Лизком решительно прерваны.
Подруга плакала и не понимала, в чем дело.
Ее старый отец нанес визит родителям Елизаветы в надежде узнать, что же произошло между девушками и почему его дочь постоянно впадает в слезы, когда он спрашивает, где же Элиза и почему она так долго к ним не приходит…
Родители и сами оставались в недоумении. Лиза же молчала, как кремень, и даже ни разу не всплакнула.
Между тем, коварный обманщик отбыл в Англию и исчез, казалось, навсегда.
Лизок играла матери на фортепиано, читала запоем все попадавшиеся под руку книги, ездила каждый сезон то в Италию учиться рисовать акварелью, то на успокоительные воды в Карлсруэ, то на остзейские пляжи.