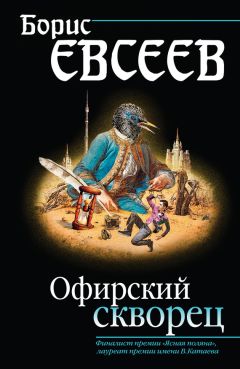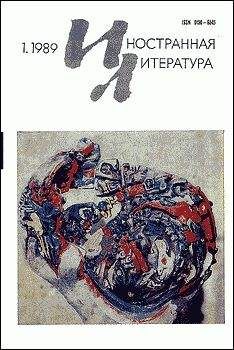Теперь про «шланг». «Шлангом» звалась рыба-навага, сильно отдававшая утильрезиной. Именно во время поедания наваги грядущий мир без бузы и политики вставал перед нами во всей своей переменчивой красе.
– Он очень ярок и широк, когда без лозунгов мирок, – учил кроха-Перец и, продолжая бубнить: «Тяжела и неказиста жизнь российского артиста», – шел наяривать на заляпанной бараньим жиром домре.
– Только в борьбе с системой можно ощутить всю остроту жизни, – наставлял доморощенный философ Кувакин. – Эта жизнь сперва полоснет тебя, как бритвой, но зато потом соскоблит со щек всю ненужную поросль…
– Бросай ишачить и вали из Москвы, пока не поздно, – советовал Юржик А.
– Куда валить? – спрашивал ты и в сомнениях тянулся за стаканом «Стрелецкой». – В Израиле русские не нужны. Вена – для вафельных Штраусов и политнудил. А мне куда со своей неоконченной повестухой?
– В Моздок, – тряс бородой Юржик, – только в Моздок!
Моздок был облаком грез, был градо-человеком, а также норой, халабудой, тайным пристанищем и глубоким логовом. Прошлым летом Юржик провел в глубоком логове три дня и теперь отправлял туда всех, кто не мог отогнать от себя мировой хаос.
– Современный мир – позорище! – вздрагивал от собственных слов Юржик.
– В смысле – театрище?
– Бросай ты свои древнерусские штучки-дрючки!
– Что мир – позорище, я и без тебя знаю, а вот что будет, если мир такого позорища лишится?..
Тем же днем, прослушав новую магнитофонную запись Высоцкого ровно четырнадцать раз и оттеснив размышления о политике на второй план, ты нашел кроху-Перца и с пристрастием допросил его.
Выходило так: магнитофонная запись небывалого качества была сделана совсем недавно в Мексике, и наш с Перцем знакомый, молодой, но шибко идущий в гору дипломатик, притарабанил ее сюда. Чтобы не вводить в соблазн шереметьевских досмотрщиков, он ловко вклеил в начало, середину и в конец пленки рассказ про революционную Мексику, Панчо Вилью и других смуглявых шелапутов.
Рассказ дипломатика, который велся на русском и для пущей важности перемежался испанскими лозунгами, был тобой аккуратно, но безжалостно вырезан. Остались только три слова, принадлежавшие дипломатику.
– Los caballos cаprichosos, – возглашал он с пленки строго, но и слегка плаксиво…
Гитарный перезвяк, тугой кирзовый хорей и сиповатый голос, рассказывавший про коней, несущих сани, и про мужика, вдруг узнавшего: к Богу не бывает опозданий, – звучали вновь и вновь.
Что-то подловатое, но и лукаво манящее чудилось в сдвоении гикающей на краях мозга испанщины и снежного русского хрипа.
Коля-дипломатик был призван на съемную квартиру и допрошен с пристрастием.
– С какого бодуна Мексика? Да я-то почем знаю! Ну, вроде в круиз Семеныч ездил и не удержался, завернул на телестудию. Была телезапись, но ее достать невозможно.
Дальше дипломатик погнал пургу про Веласкеса, текилу и якобы ее в причмок хлебавшего Льва Давидовича Троцкого.
– Заткнись, – мягко подсказал дипломатику умный Перец, – тебя про другое спрашивают. Хотим благодарить Семеныча за песню. Вот, стихи для него сочинили.
Стихи, вообще говоря, сочинил ты, но Ваня не любил «ячества».
– Так я ж и талдычу вам, а вы не слушаете, – отбивался дипломатик. – Здесь, в Москве Высоцкий! У себя, на Малой Грузинской. И адрес есть. Но вы лучше к нему теперь не суйтесь, в горести он. Да и не любит, – тут Коля сладко сглотнул слюну, – всякой вшивоты вроде вас. Если только к нему с одним пожилым грузином сходить… Тот Семеныча с детства знает, сациви с орехами ему в банке носит. Семеныч грузина пустит, может, и вас не турнет с лестницы. Только торопитесь: на днях Семеныч в Казань с концертами уезжает!
* * *
Пришли поэты и сыграли на расстроенных лирах.
Минут через десять, со стоном волоча тяжелые лиры, поэты вышли вон.
* * *
Жизнь погрузилась в бодрящий хаос: Перец с головой ушел в свое домрачейство, Юржик А. перед праздниками решил еще раз съездить в Моздок. А ты остался, потому что уже не учился, три раза в неделю работал, и работа отметала всякую возможность каких-то там ненужных поездок.
Показал свой мокнущий кончик сентябрь. Тридцатого вечером позвонил Коля-дипломатик и, булькая негодованием, сообщил:
– Завтра – во МХАТе… Будет петь! Для особо приглашенных. На дне рождения у Ефремова. Только тебя с твоей дылдой в лыжной шапочке туда ни за что не пустят!
По ночам землю прихватывало заморозками. Дылду все звали Красавой. Правда, никакой дылдой она, если разобраться, не была. Но что верно, то верно: лыжную сиреневую шапочку Красава с головы почти не снимала. Наверное, чтобы в ее музыкальные уши не попадал холод. Еще она клала на ночь в каждое ухо по дольке чеснока. Это было не совсем понятно, но, в общем, оригинально и даже притягательно.
– Так провести тебя на этот сейшен или ты сам? – не унимался дипломатик.
– Я на концерты сам хожу.
Вечер 1 октября выдался сонный, затишный. Вокруг сиял бутылочный, грустно-веселый и зеленовато-коричневый, с чисто московской желтинкой свет.
Концерт с поздравлениями уже давно шел, а ты все топтался с гитарой под мышкой у мхатовских роскошных дверей. Простой расчет: сдать гитару в гардероб, объявив себя аккомпаниатором старинных русских романсов, не задействованным в сегодняшнем концерте, был разбит в самом начале. Тебя дружелюбно вытолкали вон.
Тупо глядя на дверь, ты курил и огорчался. Вдруг один до омерзения плешивый, но очень известный актер, выходя из театра и почти у тебя над ухом, сказал, растягивая слова, другому, малоизвестному:
– … жалкие куплеты! Нет, ты дай мне песню про власть и про того, кто раньше с нею был! А он Олегу в день рождения какую-то мутотень подсунул!
Семь лет назад ты въехал в двери МХАТа,
Влетел на белом княжеском коне, —
передразнил плешивый.
– Ну просто провокатор какой-то…
– Скорей – лазутчик. И спеть про это не постеснялся. Ну, помнишь?
Я говорю, как мхатовский лазутчик,
Заброшенный в Таганку, в тыл врага…
– «Коней» бы своих, в крайнем разе, спел.
– А вот тут ты сморозил глупость, Сева! А вот тут ложному обаянию поддался!
Актеры ушли. Но мысль твоя побежала не за ними, нет! Тебе куплеты тоже были без надобности. Может, поэтому мысль вернулась к гудящей суховеями и стучащей палками по голове Мексике, к желающему промочить горло, но на виду у иностранцев конфузящемуся это сделать Семенычу.
Из Мексики слух перекинулся на родные севера. Затрещали под ветром карликовые кусты, загремели передвигаемые неведомой силой валуны, заскрипели сани, кто-то крикнул зычным голосом: «Тппру! – А затем сразу: – Но, но, родимые! Но, Сокол, но, Черкес!»
И это уже не Семеныч кричал, тревожась, кричал твой собственный, к тому времени уже лет десять как покоящийся в земле дед.
Кони плясали, кувыркались. Но у самого обрыва вдруг резко остановились. Их нельзя было сдвинуть ни назад, ни вперед. Седок божился, чертыхался, глотал снег, кашлял кровью. Кровь прерывистой струйкой текла по нижней губе, которая уже давно вспухла и гноилась, потому что в ней угнездилась настоящая саркома, приключившаяся от все того же Черкеса, со зла ударившего деда в лицо копытом. Дед подтвержденную медиками саркому густо мазал зеленкой и, раздраженно оправдываясь перед родственниками, гнул свое: «Да лечусь я, лечусь…»
Тебе стало горько и тошно, а потом светло и радостно. Но после – опять затошнило. Как трубочист, с гудящей от ветра метлой, с темно-вишневой, редкого цвета гитарой в руках, балансируя и удерживаясь от резких движений, ты шел по бордюру Глинищевского переулка к Бульварному кольцу.
Стиснутый узостью воспоминаний, не умея представить себе никого, кроме собственного деда, до изумления любившего лошадей, ты пытался вырваться из узкого переулка, в который безотчетно свернул.
Однако и вся Москва вдруг стала тесной! До поросячьего визга захотелось пустых полей, молодых, еще только высаженных, звенящих голыми веточками рощ, за ними вековых стылых лесов, потом таинственных озер цепочкой, а за лесами – желтеющего краем болота, с непроходимой топью посредине…
Куда в тот час деться из захлестнувшей горло Москвы, ты не знал и, впервые почувствовав тянущие книзу цепи великого города, тихо взвыл.
Однако выхода не было: надо было или ехать к себе на съемную квартиру, или звонить Красаве, а дозвонившись и обнаружив у нее на голове лыжную, ненужную осенью шапочку, эту шапочку содрать и выкинуть в окно, а потом выбить из ушей Красавы дольки чеснока и повалиться вместе с ней на кровать, которая до сих пор от таких падений почему-то не треснула пополам…
Но у Красавы все вышло по-иному.
Сперва она напевала что-то оперное, потом забарабанила стихами.
От тесноты сердца, от узости осенних квартир и улиц ты стал кричать.