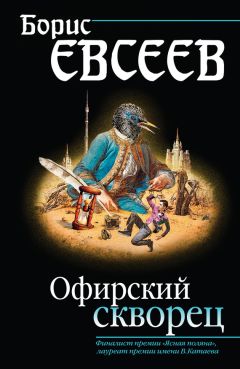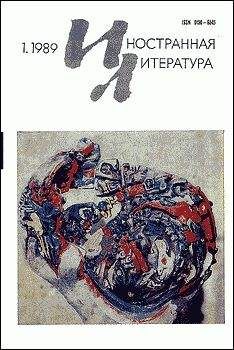Захлебываясь от счастья, маленький кандидат начал безостановочно рассказывать, как Орлов-Чесменский разбил турецкий флот. Возбуждая себя все больше, он скинул пальто, расстегнул пиджак, и пиджак его от ветра стал надуваться и опадать, как парус.
Было так. Граф приобрел сказочного скакуна и за редкую белизну шкуры назвал его Сметанкой. Заплатил Орлов за Сметанку 62 500 рублей, а помог графу совершить эту покупку паша Гассан-Бей, командовавший турецким флотом, тем самым, который Орлов чуть раньше наголову и разбил.
Турция лежала в руинах. Дымились развалины. Выли под кипарисами собаки. Стонали от предвкушения неслыханных удовольствий турчанки. Орлов торжествовал. Ему не нужны были чужие страны и мокрые тяжелые паруса. Ему нужны были лошади!
Степное далекое прошлое заговорило в нем, враз перекрыв хохот и топот моря.
Но для начала нужна была лошадь необычная, всех других лучше. И такая лошадь нашлась. Лошадь – чудо! С диковинно удлиненным корпусом, неизъяснимо грациозная, но и мощная, и неподатливая…
– Не лошадь – морской дракон! Морской конь, имел я в виду…
Маленький кандидат скинул теперь и пиджак – караульня была рядом – и, маша светлыми рукавами рубахи, стал изображать, как Сметанку, под охраной целого полка, везли через каменистые Балканы. Он пробежался взад и вперед, потом взял чуть в сторону, а затем – снова набросил пиджак на плечи. И было отчего!
Командир полка (по прямому указанию графа), чтобы Сметанку не украли, выкрасил скакуна по дороге в черный, менее ценившийся цвет. И побежал по Балканам не конь бледный, а конь угольный, вороной!
Волны Черного моря вскипали от прохода тысячетонных кораблей. Орлов каждый день справлялся о Сметанке. А после Сметанки – о семье Гассан-Бея. Кстати, все это время взятая Орловым в плен семья Бея находилась под полной защитой графа и жила у него, как у Христа за пазухой.
– …жила, оберегаемая, как та бутылка у тебя во внутреннем кармане, – добавил внезапно золотоокий. – Стоп! – крикнул он. – Стоп! Чувствую, про бутылку ты не соврал. Давай ее сюда!
Маленький кандидат принял бутылку бережно, под донце, и мигом исчез в караульне. А ты продолжал стоять как истукан, потом подошел, подергал дверь и понял, что остался без бухла, хотя и с русским сюжетом.
В это время из-за отдельно стоящей кирпичной стены вышел красно-серый, с неимоверно длинным туловищем конь. Подволакивая правую ногу, конь ушел в поля. И ты сразу вспомнил еще две строки из Высоцкого, которые, покидая МХАТ, со сладкой ненавистью пропел маленький плешивый актер: «Волхвы пророчили концы печальные, мол, змеи в черепе коня живут…»
Тут же из караульни выскочил кандидат и крикнул, что гулять красно-серому уже недолго, что он орловец, но орловец бракованный, что у красно-серого, как и у его предка, тоже лишняя пара ребер, но той резвости и красоты, что у Сметанки или у Квадрата, нет и в помине!
Маленький кандидат вдруг замолк.
– Вот оно с лишним ребром как, – лопнувшим голосом сказал он через минуту, – несладко с лишним ребром, керя. А ведь в лишней паре ребер – вся красота!.. Ну да ладно. Принял я, и захорошело, – чуть подобрел он, – могу сводить тебя куда надо.
В отдаленной конюшне, близ перелеска, у какой-то речки-вонючки кандидат показал тебе по очереди четырех выбракованных лошадей, заплакал, вывел двух из них, крикнул:
– А поскачут! Поскачут, говорю тебе, не хуже здоровых!
Суетясь, стал запрягать коней в стоящие здесь же летние дрожки.
В легонькой повозке, куда ты едва втиснулся, по осенней чуть примороженной дороге с фонарями синеватыми сбоку мы и поскакали.
И, ясное дело, перевернулись.
Кандидат зашиб руку и ногу, а ты ничего, почти не зашибся и, не обращая внимания на стонущего возницу, пошел к лошадям, гладил по очереди их шеи, постукивал по крупу, и при этом подмосковное пространство безо всякого твоего участия расширялось и расширялось: до размеров воронежской степи, до необозримых просторов Дикого Поля…
Над просторами Дикого Поля было не по-осеннему тепло. Потом внезапно стало холодать. Замелькали синие огоньки, закружились высоко-высоко, а после стали опадать на стылые волчьи загривки, повисли на рогах коров и на поперечинах столбов круглые как конфетти, и прозрачные как лед, элементарные частицы.
Человекобуквы в душегрейках, с пастушьими, загнутыми на концах герлыгами в руках, бездвижно стояли по краям Дикого Поля и потерянно улыбались. В этот миг они не могли никого пасти, потому что не было у них больше стада!
Животные, ходившие поодиночке и стадами, тоже замерли. Потеряв хозяев, они заурчали и закручинились. Только одичавшие коты драли глотки в пустых перелесках. Да жеребята, пятясь, терлись спинами о серо-соловых орловцев, не боящихся ни волка, ни черта, ни ведьмы с кочергой. Все терялось в синеватой, осенне-морозной полумгле. А оттуда, из полумглы, уже начинало выступать озерными краями, начинало проблескивать восьмиконечными кристаллами соли и звезд великое русское пространство…
При этом и мелькающие элементарные частицы, и люди вовсе не были призраками.
Не были химерами, не готовились сдать свои шкуры в утильсырье и животные! Все они – и люди, и частицы – несли на своих плечах, двигали и выправляли таинственный, не дающийся в руки русский сюжет, который нельзя было зарисовать карандашиком, украсть, избыть!..
– Ты, слышь-ка, иди, а то меня посадят… Если узнают, что бракованных показывать выводил… – застонал кандидат из канавы. – Не велено их показывать. Наш дефект – нам и разбираться. Иди, я сам как-нибудь… Оно и хорошо, оно и верно, если стану калекой, раз они у нас тут калеками стали!
Кандидат вынул из кармана флягу с перелитой туда загодя настойкой и глотнул.
Ты узнал «Стрелецкую» по запаху: диковатому, горькому, степному. А узнав – сам себе улыбнулся и, выкинув по дороге куртку с оторванным рукавом, пошел куда глаза глядят.
Ты шел, и сквозь тебя продолжали бежать времена свои и чужие: Орлов-Чесменский под парусами и товарищ Брежнев в спортивном трико, Высоцкий в Мексике и Большой театр в «Ковент-Гардене»: с конями-танцорами, напрочь отдавившими своими лошадиными копытами нежные пальчики невесомым балеринам.
А потом и более поздние времена побежали: с письмами в Госдуму в защиту конезавода, с криками про несвободу жизни и свободу смерти… Сюжет русской осени как следует еще не прописан. Много в нем битых стекол лиризма и унылых медикаментозных причитаний. А ведь осень имеет явный и точно очерченный сюжет! Это – ожидание предзимья. Осень узкое пространство. Зима – широкое. Осень – почти всегда остановка перед концом жизни прежней и переходом к жизни иной.
Осень, осень, странница заозерная, сдернула с меня куртку, разодрала плечо и мазнула гниловатым листом по щеке, – ты ли?..
Сюжет именно той, а не какой-нибудь другой осени, не влезал в стихи, ожигал спину шрамами предчувствий, взрывался страшным московским октябрем 1917-го, ныл мозжечками 1993-го, валил снегопадом осеннего парада 1941 года, выл взбесившимися подмосковными собаками годов 2000-х, позванивал стальными пружинами осени нынешней и снова возвращался к жарким турецким денькам, к лишнему ребру, навеки испортившему, но и возвысившему неповторимого орловского рысака!
Лишним ребром показался тебе и сам Высоцкий.
Лишним ребром представилось вдруг и все искусство, кроме навек одобренного, навсегда утвержденного…
Стало понятно: для стихов осенний сюжет непомерен, но и без стихотворного выпендрежа, он почему-то существовать не может!..
* * *
Поэты разбили деревянные лиры о камни, выкинули их в канаву, ушли навсегда.
Вечер кончился.
Ночной автобус, шедший из Звенигорода, притормозив, подхватил тебя на ходу.
Ты плыл в Москву и еще не знал: Высоцкому остается меньше трех лет, красно-серому орловцу с лишней парой ребер – дня три-четыре, конезаводу – лет двадцать, а потом все, каюк! Захотят завод распродать, начнут вокруг строить коттеджи, будут написаны письма в администрацию президента и самому президенту, но и они не помогут. И уже стылым осенним днем 2014-го, дуя на пальцы и обморочно улыбаясь, ты будешь смотреть на изменившуюся до рвоты Рублевку и думать: именно элементарные частицы жизни длят и длят неповторимый осенний сюжет – русский, ночной, страшновато-сладкий, плавный по краям, стремительный внутри, заскакивающий в будущее, не сбавляющий скорости на смертельных поворотах, иногда безостановочно крутящийся на месте и при этом делающий высь – далью, а даль – высью!
Тебе казалось, автобус от напора мыслей перевернется вверх дном.
Но он не перевернулся. Зато при въезде в Москву его остановил милицейский патруль, началась проверка документов, и у всех документы были, а ты свои забыл дома, и русский сюжет с малым барабаном и одной сломанной, а другой целехонькой барабанной палочкой, Бог весть какими путями очутившейся в комнате милицейского начальника, с песней под этот барабан про коней привередливых, заблеванным КПЗ и странным человеком, полночи в этом КПЗ простоявшим на голове, – закрутился вновь!