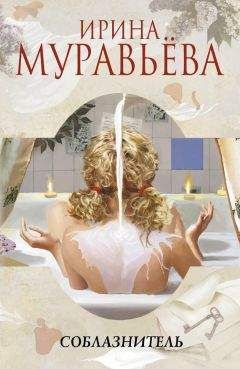Ознакомительная версия.
Он, однако, не сказал ей, что собственное его отношение к только что законченной работе оказалось странным: он чувствовал книгу свою так, как руку, когда ее, скажем, приблизишь к огню, но так же, как хочется руку отдернуть, забыть про нее, так его подмывало забыть о романе: что вышло, то вышло. Роман мой прекрасен, а что вы там скажете – какое мне дело? И кто мне судья?
Читатели, не удивляйтесь. Пока что герой наш наивен и неискушен. Он должен набить еще множество шишек, и кровоподтеков еще будет много, но он не похож на других и поэтому мне с ним не тоскливо, но очень тревожно.
Позвонили из редакции и сказали, что начальница не любит, когда произведение передают через третьи руки, и хочет сама познакомиться с автором. Утром одиннадцатого августа Бородин, не побеспокоившийся о том, чтобы надеть белую рубашку или вообще какую-нибудь рубашку, пусть даже и в клеточку, а оставшись в простой черной майке и джинсах, запихнул роман в портфель и хотел было уже застегнуть молнию, как вдруг странное желание остановило его. Оглянувшись по сторонам, словно боясь, что его кто-нибудь увидит, он быстро достал папку из портфеля и несколько раз поцеловал эту папку с такою отчаянной нежностью, с которой целуют ребенка, прощаясь.
«Вот так вот! – сказал он портфелю. – Боишься? Пошли продаваться».
В редакции его встретила молоденькая востроглазенькая секретарша и сообщила, что главный редактор разговаривает по телефону. Приятель Бородина, затылок которого он увидел в приоткрытую дверь, даже не оглянулся, хотя по движениям его робкой и напрягшейся спины Бородин понял, что приятель отлично знает о его приходе.
«Порядочки здесь! – подумал он быстро. – Гестапо какое-то».
Прошло минут сорок.
– Хотите воды? – спросила его востроглазая.
– Хотел бы оставить роман, – сказал он угрюмо. – Зачем я сижу здесь, не знаете?
Секретарша пожала худенькими плечиками. Через десять минут она сняла трубку зазвонившего телефона и радостно пропела в него:
– Сейчас!
Перевела дыхание, кивнула Бородину в сторону двери. Он вошел. За массивным письменным столом, на котором не было ни одного листочка, а только телефон и компьютер, сидела длинная, судя по всему, и худощавая женщина с сильно напудренным лицом и беспокойными глазами. На ней было строгое платье с большим гофрированным белым воротником, напоминающим костюмы Марии Стюарт.
– Садитесь, – сказала она с придыханьем, – о вас говорили.
«Ну чистый Булгаков!» – подумал он быстро.
Усмешка его явно не понравилась начальнице. Два розовых пятна зажглись на ее удлиненных щеках.
– Я разве смешное вам что-то сказала? – спросила она.
– Нет, это я мыслям своим.
Напудренная дама нервно протянула руку через весь стол.
– Давайте ваш текст.
– Мой текст?
– А у вас и еще что-то есть?
Голос ее стал металлическим.
– Да нет, ничего больше нет.
– Я вас не задерживаю, – сказала она.
Бородин пожал плечами и пошел к двери.
– А вас не учили прощаться, когда вы уходите?
Он удивленно оглянулся. Начальница стояла, выпрямившись, с раздутыми ноздрями, и ослепшими от ярости темными глазами смотрела на него.
– Прощайте, – сказал Бородин.
Дверь захлопнулась. Приятель ждал его внизу, на улице.
– Ну что?
– Не возьмет. – Бородин усмехнулся. – И как вы все это выносите?
– Выносим, и все. Кушать надо.
– Ну, это понятно, – сказал Бородин.
В метро он не испытывал ничего, кроме легкого раздражения, к этому нелепому походу, которое вскоре заменилось желанием прочесть свой роман самому. Только чтобы никто не мешал ему, не отрывал.
Вера сидела на качелях и грызла семечки.
– А что ты так быстро вернулся?
– Пойдем, я тебе почитаю роман, – сказал Бородин. – Это важно сейчас.
В лифте он губами снял прилипшую к ее верхней губе крохотную черную семечку. Она моментально закрыла глаза.
– Терпи, – прошептал Бородин, – сперва будем читать.
– Терплю, – прошептала она.
Пока Бородин искал ключи, а она мешала ему, щекотала его шею теплым носом и быстро целовала ухо, за дверью квартиры напротив слышалось какое-то движенье, как будто от двери отодвигали тяжелый предмет, и два резких голоса – женский с мужским – грубили друг другу. Бородин наконец отыскал ключи, Вера не успела отодвинуться от него, и в эту минуту открылась соседская дверь. Сосед Погребной стоял на пороге, опираясь на костыли, стопа правой ноги его, закованной в гипс, была неприятного мертвого цвета. А рядом, лохматая, в пестром халате, стояла жена, Погребная Евгения, которая, судя по ее раздосадованному лицу, проиграла сражение в коридоре и не сумела помешать своему мужу, Погребному Николаю Осиповичу, явиться сейчас перед этою парочкой, вконец потерявшей остатки стыда.
– Вы ногу сломали? – спросил Бородин. – А когда вы успели? Я только вчера вас здесь видел.
– Успел, – ответил ему Погребной. – Возвращался домой. Темно, свет они экономят, мерзавцы. Арбузная корка. Упал, и того… Но не перелом это, к счастью, а трещина.
– Ну, ладно, – небрежно сказал Бородин, – со всеми бывает.
Ответ его вызвал бешенство у инвалида и, нервный, как все инвалиды, он вспыхнул, себя не сдержал:
– А сколько гражданочке лет? – костылем он ткнул в серебристую юбочку Веры. – Мы тут вот поспорили как-то с женой… Она говорит, что тринадцать, а я два года накинул. И кто из нас прав?
У Бородина захватило дыханье. Ему ведь казалось: осталось немного! И – спасены! А вышло иначе: стоит сама смерть в очках на веревочке, в рваной рубашке, с ногой костяной, с серой пеной в углу дрожащего рта, и глядит на него своим немигающим взглядом, не дышит…
– Так кто из нас прав? – повторил Погребной.
Он вспомнил, как мать называла его «мальчишка-трусишка», и он с ней не спорил. Трусишка – и ладно. Таким уродился. Когда, еще в самом начале весны, они целовались во тьме подворотни, и там их застукали эти старухи, и он ощутил, как душа ушла в пятки, тогда он сказал себе: «Не приближайся!» – и слово сдержал, но потом, когда Вера пришла вдруг сама, с серым взглядом русалки, худая как щепка, и он одурел, не смог ее выгнать, а смог только сжать в объятьях и бросить ее на кровать, где вдруг оказалось, что эта русалка – уже и не «девочка», страх отступил.
– Пойдем, Николаша, пойдем! – сказала жена Погребного.
Она улыбнулась и всем показала свои желтоватые рыхлые десны. Его затошнило от них. Эти десны напомнили ряженку. В коридоре Вера обняла его. Она обняла его грустно, спокойно, похоже на то, как его обнимала когда-то жена, когда он волновался.
– Не бойся, – шепнула она.
– Нет, я не боюсь, – сказал он. – А вернее, не слишком боюсь. Но ты вот представь себе, что человека сажают в тюрьму. По ошибке сажают. И он сидит в камере вместе с убийцами. И каждую ночь ему снятся кошмары. Потом выясняют, что это ошибка, и он возвращается. Дети, семья. Но он ведь – другой человек. Или как?
– Не знаю, – произнесла она. – Я не знаю.
– Мне кажется, что раз все это случилось, его уже и наказали. Он разве забудет об этом? И разве к нему не вернутся все эти кошмары?
– Но время же лечит. Все так говорят.
– Ты не поняла меня.
Вера вдруг вспыхнула.
– Всегда про себя, про себя, про себя! Ты слишком боишься всего! Ты точно такой же, как папа! Он тоже всегда говорит про себя! Ему всегда страшно, и плохо, и больно, и жить он не хочет, и это, и то! А рядом ведь мама! А маме что делать?
– Садись. Я тебе почитаю.
– Ты любишь меня? Или больше не любишь? – спросила она.
– Нет, конечно люблю, – ответил он ей и слегка усмехнулся.
– Зачем ты такой…
– Ну, какой я? Какой?
– Я думала, что очень честный, но это, конечно, неправда. Ты просто жестокий.
Андрей Андреич удивленно посмотрел на нее. Ему вдруг пришло в голову, что и Елена, от которой он ничего не скрыл, тоже обвиняла его в жестокости.
– Давай я тебе почитаю, – сказал он. – Послушай вот это: седьмая глава.
«Когда Левицкий возвращался в бурых пятнах чужой крови – расстреливать приходилось много, – никто уже ни о чем не спрашивал, ему просто подавали списки, – Светлана ждала его. Старый слуга вносил три зажженных высоких свечи.
– Ты здесь? Подойди, расстегни-ка мне платье, – просила она. – Где ты был? Убивал?
И он шел за нею в их новую спальню. В глаза ему сразу бросался букет, который ей кто-то всегда присылал с одною и той же запиской «Я вас…», потом – отражение в зеркале. Женщина стояла не двигаясь и раздраженно смотрела на то, как он входит.
– Я грязный. Позволь, я умось.
– Не стоит.
Тогда он бросался к ней и обнимал, обхватывал сзади, и руки дрожали. Спина была шелковой, очень горячей».
Коротко, но сильно, по-хозяйски, позвонили в дверь. Бородин посмотрел на Веру. Она ответила ему расширенным взглядом. Он открыл. На пороге стоял милиционер в сопровождении инвалида Погребного на костяной ноге, его жены и незнакомого человека в зимней ушанке.
Ознакомительная версия.