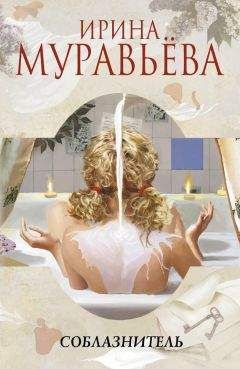Ознакомительная версия.
И он шел за нею в их новую спальню. В глаза ему сразу бросался букет, который ей кто-то всегда присылал с одною и той же запиской «Я вас…», потом – отражение в зеркале. Женщина стояла не двигаясь и раздраженно смотрела на то, как он входит.
– Я грязный. Позволь, я умось.
– Не стоит.
Тогда он бросался к ней и обнимал, обхватывал сзади, и руки дрожали. Спина была шелковой, очень горячей».
Коротко, но сильно, по-хозяйски, позвонили в дверь. Бородин посмотрел на Веру. Она ответила ему расширенным взглядом. Он открыл. На пороге стоял милиционер в сопровождении инвалида Погребного на костяной ноге, его жены и незнакомого человека в зимней ушанке.
– Пройти разрешите, – вежливо сказал милиционер, – сигнал поступил: непорядок у вас.
– Какой непорядок? – бледнея, спросил Бородин.
Милиционер увидел Веру.
– Вот эта, – сказал Погребной. – И дня не проходит. Все время здесь шастает.
– Моя ученица, – сказал Бородин. – Готовится в литературный.
– Ну прям ученица! – пропела Евгения.
– Хозяин квартиры кто? Вы? – негромко спросил милиционер. – Ваш паспорт, пожалуйста.
Бородин протянул ему паспорт.
– А ваш паспорт, девушка?
– Я паспорт с собой не ношу, не привыкла, – она закусила губу, – поэтому паспорта нет.
Евгения вскрикнула, словно была не женщиной в грязном и мятом халате, а птицей, внезапно подстреленной в небе.
– Так мы ж говорили… А вы нам не верите!
Милиционер поскреб подбородок.
– Вы чем занимаетесь здесь?
– Занимаемся? – Лицо его было застывшим, как маска. – Готовлю ее к поступлению в вуз.
– Кровать, разрешите спросить, почему у вас, так сказать, среди дня не заправлена?
– Живу в холостяцком режиме. Хочу отдыхаю, хочу ночь не сплю.
– Не вижу причины мешать. Занимайтесь. Но если еще раз поступит сигнал, придем и проверим.
После их ухода Андрей Андреич отошел к окну и вжался в стекло неподвижным лицом. Она накрутила пушистую прядь на свой очень тонкий и длинный мизинец.
– Ну, что ты молчишь? – прошептала она.
– Сама понимаешь.
– Ты бросишь меня?
Он ей не ответил. Стоял и смотрел, как гаснет закат, как темнеют деревья.
– Ты бросишь меня? – повторила она.
– Мне нужно побыть одному. Не сердись.
– Скажи, почему? Почему не со мной?
– Ну, нужно, и все.
– Не бросай меня, слышишь!
– Не брошу.
– А знаешь, – шепнула она, – ты больше меня не увидишь.
– Увижу.
Тогда она хлопнула дверью. Он видел, как Вера бежала к метро. Ее волосы еще выделялись своей желтизной среди всего серого, темного, грязного.
Бородин выключил компьютер и задернул занавеску. В комнате стало почти темно, как будто наступил вечер.
Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь…[6]
Он бормотал эти строчки и чувствовал, что страх, стиснувший его изнутри, постепенно утихает. Но как только строчки оборвались, страх вернулся и принялся нарастать с неудержимой силой.
«Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь…»
Перед этим страх отступает. И неважно, что не он это написал, а другой человек. Какая разница, кто посадил дерево, если оно каждую весну покрывается остро пахнущими листьями, от которых склеиваются пальцы и молодеет душа? Бородин закрыл глаза и увидел самого себя, открывающего ключом дверь квартиры на Тверской и входящего в уютную темноту, слабо поблескивающую стеклом книжного шкафа и люстрой, которую так удачно купила генеральша. Теплые и вкусные запахи этой квартиры охватили его, как ветер, летящий из близкой деревни, охватывает человека, и тот всем нутром и всей кожей вдыхает, как радостно пахнет сырая земля, как тянет парным молоком из коровника и как сладкий запах дешевых духов плывет с танцплощадки, где эти духи, настойчивые, как голодные женщины, осиливают даже водочный запах.
У Елены был легкий, приветливый характер. И жили они хорошо и любовно. Тело ее было такой белизны, что ночами, когда мелкими искрами разгорался снегопад за окном, фрагмент ее нежной щеки или локоть казались сгущением этих же искр.
Он знал, что ничего нельзя вернуть: ни прежнего себя, ни Елену, ни снега за окном. Потому что существует не одна смерть, как думают люди, а множество малых смертей. И прежняя славная жизнь умерла, сгорела внутри его дикой любви и пеплом покрыла кровать, на которой лежал он в обнимку с растрепанной школьницей. А сегодня, оскорбленная и заплаканная, вздыбив свою рыжую шерсть, как кошка, на которую плеснули кипятком, убежала школьница. Он не бросился догонять ее и не стал успокаивать и просить вернуться. Была раскаленная страсть к ней. И долго. Но вдруг стала гаснуть, как пена морская, впиталась в шершавый колючий песок.
А лето все шло, продолжалось, сияло, и каждая плоть – от кузнечика до огромной распаренной женщины в шляпе – должна бы была ликовать, упиваться и этим сияньем, и этим теплом, а вот почему-то все не получалось. Более того, внутри благодатного тепла с особенной скоростью размножались угрызения совести и подозрения, которыми изуродована и жизнь отдельного человека, и жизнь всех на свете людей. Угрызения совести и подозрения выползали друг из друга и, освещенные ярким летним солнцем, тяжело передвигались внутри простодушного воздуха, ища, где бы впиться покрепче, кого бы ужалить, кого прокусить. И мало кто мог устоять перед ними.
Прошло несколько дней. Бородин ждал, что она позвонит, но Вера не звонила. Из редакции толстого журнала его тоже не беспокоили. Он думал о Вере не так, как он думал о ней еще пару дней назад. Прежде любая мысль о ней вызывала в нем острый спазм того блаженства, которое он испытывал с нею. Теперь острота притупилась, зато в душе его, как это бывает внутри увлажненной оттаявшим снегом земли, сплелись размягченные корни, и вскоре сквозь сетку дождя и тумана отчетливо выросло дерево.
«Почему мне ничего не нужно сейчас? – думал Бородин, лежа на своей неубранной кровати в комнате, раскаленной от солнца сквозь задернутые занавески. – Ничего и никого. Точно так, как было, когда они умерли: сперва отчим, а потом мама. Я почти ничего не помнил. От отчима остался запах водки и рвоты. А от мамы – какой-то пудры. Я боялся только армии, но у меня нашли туберкулез и отправили в лечебницу. В лечебнице было хорошо и неловко, начались женщины. Антон приводил к нам в палату свою девушку, и они устраивались между его и моей кроватью. А девушка кашляла, и когда дело подходило к завершению, кашель ее становился собачим лаем, дыхания ей не хватало. А моя женщина была старше и всему меня научила. Я хотел только одного: знать, как это делать. Потому что это придавало смысл жизни и делало ее острой. – Мысли его начали перескакивать на другое. – А сейчас? Сейчас я не знаю, на что опереться. С Леной было хорошо, потому что Лена сильнее меня. Она так дорожила мной, что, как огня, боялась своей силы. И ведь это она выгнала меня, а получилось, как будто я ее бросил. Она знала, что сам я никуда не уйду, – он рывком сел на кровати. Крупный пот заливал его лицо гуще и солонее, чем слезы, – стыдилась меня. Да, стыдилась. А эта?»
Он вспомнил молочную ванну. И то, как Вера сидела, кудрявая, мокрая.
«Я хотел ее. Вот и все. Какая там к черту любовь! Увидел, как она вошла в класс, и меня прихлопнуло. – Бородин опять лег, накрыл лицо подушкой. – Хорошо, что здесь никого нет. Слава Богу».
И вдруг все лицо его сморщилось.
«Стыдно! – он снова вскочил. – И с этим стыдом жить нельзя. Вот сяду в троллейбус и вдруг встречу их. Куда же я спрячусь? А некуда прятаться».
Он пошел в кухню, шумно наглотался теплой водопроводной воды и устроился на кровати в прежнем положении.
«Мне хочется домой, в огромность… Интересно, когда он это написал? Когда у него была и семья, и любовница? Или когда любовницы еще не было? – Было так стыдно, что он говорил вслух с самим собой и даже жестикулировал. – А я-то хорош! Таиланд тут устроил!»
Маленькое и круглое лицо Васеньки с персиковыми щеками и глубокими нежными ямочками на этих щеках вспыхнуло в полутьме.
«Да, я тут устроил Таиланд. А вот подрастет моя Васька… Придет взрослый дядя и скажет: «Какая красивая девочка!»
Он подошел к окну и отдернул занавеску. Заходящее солнце блеснуло прямо в глаза.
«Да тихо же! Тихо! – сказал Бородин, обращаясь не к солнцу, а к окнам, горящим напротив. – Пока что пришел идиот с костылем. Пришел и ушел. Все очень логично: моя ученица. Комар не подточит… И все. Это нужно забыть. Вернуться домой. Елене сказать, что одумался. Точка».
Ему вдруг до тошноты захотелось смеяться, но он сдержался.
«Ни денег, ни даже приличной работы. Один только секс да любовь, да и те…»
Он обхватил себя крест-накрест голыми и сильными руками. Прикосновение горячих рук к собственной коже вдруг возбудило его, как будто бы Вера прижалась к нему и тут же отпрянула.
Ознакомительная версия.