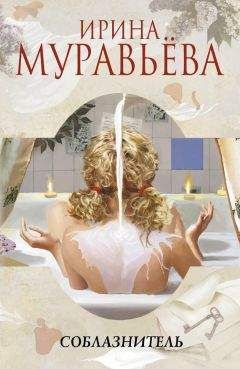Ознакомительная версия.
Читатели милые, захваченные моим рассказом и разделяющие то вдохновение, которое я сейчас переживаю! Не приходило ли вам в голову, что очень тонкая черта, к тому же прерывистая, неуверенная, проведена между дурными мыслями человека и его же дурными поступками? А вы вот вглядитесь. Желая кому бы то ни было смерти, несчастья, болезни, потери имущества, вы ведь убиваете, вы ведь воруете, хотя и находитесь, может быть, даже в другом государстве. Воскликнешь, бывает, в сердцах: «Чтоб ты сдохла!» какой-нибудь серой, больной старушонке, какая толкнула вас в тесном трамвае, а кто ее знает: жива ли бедняжка на следующий день? При чем здесь, в берете, хромой Мефистофель, при чем здесь все эти германские штучки? Не нужно быть Фаустом, чтобы однажды продать свою душу и не спохватиться, и не побежать вслед за ней, уносимой в когтях окровавленных, жадных когтях, – да, не побежать, спотыкаясь и плача: «Верните! Верните!»
А поздно, голубчик. Зачем не молился, когда подступали к тебе эти мысли? Ведь это же он искушал тебя, он. Простой русский бес, весьма мелкий к тому же, в засаленной кепочке, а не в берете, в протертых перчатках и клетчатом шарфе.
Именно так все и произошло с профессором Аксаковым. И если бы Валерия Петровна Курочкина не удивила его своим отказом, а сразу взялась помогать, да с охотой, с которой бралась за свои безобразия, то ангел, хранитель души его грешной, не стал бы бороться с ведьмачкой в то утро, когда просвещенный Иван Ипполитович отправился с целью убийства в деревню.
Постойте! О чем это я? Он сейчас летит в облаках, высоко-высоко, его ждет симпозиум, жгучие люди, готовые кто на костер, кто на плаху за правое дело бессильной науки, а он отвернулся и смотрит в окошко, и даже сосед его, крепкий старик, не видит лица его и выраженья его словно изголодавшихся глаз.
Профессора Аксакова жег стыд. И так сильно жег, что, усаживаясь в кресло и привычно улыбаясь окружающим, особенно стюардессе с голубоватыми, как у Мальвины, волосами, он поймал себя на мысли, что хорошо было бы грохнуться всему этому самолету, тогда бы и кончились разом все муки. Однако он тут же ужаснулся тому, что сверкнуло в голове, и, сжавшись внутри, как пружина, прикрыл ноги пледом, поскольку какой-то сквозняк шел из пола. Перед глазами Ивана Ипполитовича постоянно возникало одно и то же: он отстраняет Лину Борисовну, подходит к дивану, на котором, отвернувшись лицом к стене, лежит плотно завернувшаяся в простыню девочка, и только маленькие грязные ноги ее с красными ноготками упираются в валик, а рядом, на полу, сидит Лариса, которая поднимает лицо, и профессор Аксаков видит, что это и не ее лицо, а чье-то похожее, старше намного, – лет, может, на двадцать, – и боль в этом милом лице, боль такая, что он тут же сел с нею рядом на пыльный, в зеленых разводах и птицах, ковер.
– Ваня, – сказала Лара Поспелова. – Ванечка.
Соленый ком набух в горле профессора и надавил на нёбо.
– Смотри, – прошептала она. – Что наделала…
Она высвободила из простыни худую руку Веры, которая даже не пошевелилась. Профессор Аксаков увидел несколько свежих порезов на запястье.
– Кровь шла, – сказала Лариса. – Мы остановили.
Иван Ипполитович зашмыгал носом.
– Дай я погляжу, – он всмотрелся в неглубокие затянувшиеся ранки, – она только кожу порезала. Это пустяк.
– Какой же пустяк?
Лариса Генриховна тяжело поднялась с пола, поцеловала запястье своей дочки и снова осторожно накрыла ее руку простыней. Вера глубоко и ровно дышала.
– Заснула, – сказал Иван Ипполитович. – Ей сон сейчас важен.
– Пойдем, Ваня, – попросила Лариса Генриховна. – Боюсь, разбужу.
Они вышли на кухню, из которой сейчас же, как тень, с жалким серым пучком на затылке, выскользнула Лина Борисовна. Лара обеими руками обхватила Ивана Ипполитовича и с яростной силой вся вжалась в него, как будто бы он мог служить ей защитой, укрыть ее от урагана и ливня. Ее колотило, и кожа Аксакова вбирала в себя эту дрожь, а дыханья их будто ловили друг друга и вместе рождали глубокий раздвоенный звук.
Двадцать два года он тосковал по ее телу. Двадцать два года назад они попрощались на дачном перроне, а на следующий день ее заметил Переслени, затащил в кусты на Воробьевых горах и сделал своею законной женой. Тело Аксакова тут же вспомнило запах ее волос, горячую впадину между ключицами, оно наслаждалось и торжествовало так, как торжествует охотник, загнавший в капкан или сети желанного зверя. Но странно: душа его не разделяла восторженной жадности плоти, стыдилась. Сквозь тонкую ткань профессор Аксаков ощущал слегка царапающие соски и круглый упругий живот бедной Лары, которая, видимо, даже не думала о том, что прижалась к нему в своем легком, на голое тело надетом халате, и вскоре профессору стало неловко, что он в это время посмел ТАК использовать ее беззащитность.
Они продолжали стоять, слегка раскачиваясь под силой незатихающего рыдания, как будто два дерева соединились под силою ветра, и чем теснее она прижималась к нему, чем крепче они обнимали друг друга, тем острее разливалась по всему существу Ивана Ипполитовича и жалость, и страх за нее, как будто он был виноват перед нею. Он не произнес ни слова не только потому, что всякие слова были напрасны, но и потому, что любое, самое любящее слово разрушило бы единство, в котором им было обоим тепло и свободно.
Он просто любил ее, а эта ревность, горчайшая, темная, с кровью и слизью, куда-то пропала. Он освободился.
Они не услышали звонка в дверь и оторвались друг от друга только тогда, когда Переслени закашлял на кухне.
– Ну вот, я приехал, – сказал Переслени.
Иван Ипполитович оглянулся и словно бы даже его не узнал. Ничего плохого не было в этом невысоком, широкоплечем человеке с ясными и встревоженными глазами и небольшой бородкой, в которой сквозила слегка седина. У этого человека было такое же право любить Ларису, как и у профессора Аксакова, а то, что Лариса его предпочла, на то была воля их общей судьбы.
Встретившись глазами с вошедшим, Иван Ипполитович живо представил себе, как совсем недавно он вынашивал планы умертвить его, потому что существование ничем не провинившегося перед ним Марка Переслени казалось ему несовместимым с его собственным существованием.
Итак, он летел в облаках, облака его укрывали собою, своею слегка равнодушной, но светлой основой, они поглощали и стыд, и грехи, и мысли дурные, и грязные речи забившихся в эту железную птичку, такую неловкую и своевольную, на крылышке, еле заметном, которой синело «Swiss Air».
Полет был недолгим. От жизни до смерти еще меньше времени, если подумать.
Ночью с двадцатого на двадцать первое августа Бородин не мог спать. Мысли его были, как ни странно, далеки не только от Веры, но даже от дочки, с которой он должен был свидеться утром. Заснул он на самое короткое время еще вечером и во сне увидел себя стариком. Старик был коричнево-смуглым и голым, стоял в очень теплой реке, наклонившись и словно пытаясь в ней что-то поймать. На берегу его ждала женщина, еле различимая в темноте. Сначала он сразу подумал: «Елена!» Но понял, что это была не она. У старика сильно болели ноги, теплая вода помогала ему, но женщина торопилась и объясняла, что не может больше ждать и он должен выйти скорее на берег. Тогда Бородин догадался во сне, что женщина эта и есть его смерть. Коричнево-смуглый и голый старик, которым он стал, опустился на корточки и медленно, тихо пополз к ней по дну, довольный, что долго ползти не придется и сил ему хватит.
От страха Бородин проснулся. На поверхности сознания дрожало изображение ползущего навстречу смерти старика, но реальность уже проступала из-под корки кошмара, как из-подо льда, разогретого солнцем, синеет вода. Он понял, что это был сон, вытер пот.
А ночь между тем навалилась на город. Погасли последние огни, и вдруг по всему небу побежали зарницы, эти фальшивые предвестники грозы, которая где-то идет, далеко, и где-то, за сто километров отсюда, грохочет и гром, рассыпаются молнии, а люди укрылись в дома и притихли. Зарницы, изо всех сил освещающие августовское небо своим жутковатым белесым огнем, показались Бородину отражением тех мыслей, которые так напугали его. Никогда прежде он не думал о смерти, потому что ему едва исполнилось тридцать лет и он не собирался умирать.
Андрей Андреич встал, плотно прижал руки к туловищу и, закрыв глаза, напрягшись и сильно побледнев от этого, сделал глубокий вдох, а после, сжав челюсть и словно слегка улыбаясь при этом, начал медленно и осторожно выталкивать воздух, до отказа забивший легкие. Спокойные до безучастности йоги так дышат всегда, оттого им не страшно. Круглое материнское зеркало отразило голого человека с нелепой гримасою рта и ноздрями, раздутыми, словно от сильного гнева.
Он плюнул на йогов и сел на кровать.
Ознакомительная версия.