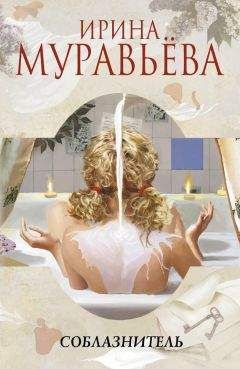Ознакомительная версия.
От девочки пахло духами. Лицо накрашено сильно и губы в помаде. Спросить у нее: «Дочка, сколько тебе?» Жену подослать: «Сахарку не одолжите?»
Не впустят они, уж какой сахарок! Ведь носом же чувствую, что происходит, ведь вижу по роже его лупоглазой, что он эту девку и этак, и так! Да, надо сажать, надо быстро сажать, а то она вырастет, паспорт получит, и с гуся вода, с лупоглазого этого!
Всю ночь ему снились кошмары: жена внесла в дом ребенка.
– Откуда ребенок? – спросил он жену.
– Что значит «откуда»? Оттуда! Где все, там и я!
– А ну признавайся! Ты с кем нагуляла?
– Понюхай. Не пахнет? – спросила жена.
Он нюхал ребенка. Ребенок был свежим.
– Оставим тогда. Я их всех перенюхала. Везли очень долго. И без холодильников. А лето, жара. Все арбузы прокисли.
– Арбузы? – И он снова начал дрожать.
– Арбузы, конечно. Ты что? Обосрался?
– С чего ты взяла? Я как был, так и есть.
– Глаза бы мои на тебя не глядели! У всех мужики на подбор, молодцы, один ты засранец, ни кожи ни рожи!
Полковник проснулся в холодном поту. Пощупал себя под трусами: все чисто. Левкоями тянет с балкона. Сажать! Сажать его, гадину! И поскорее.
Турецкие братья Алчоба с Башрутом могли бы еще заработать в Москве – работы хватало и деньги платили. Московские девушки были веселыми. Месяц назад интернациональная бригада побраталась с женским коллективом кондитерской фабрики «Большевик». Устроили праздник. Москвички сперва воротили носы, потом подобрели, пошли танцевать, потом целовались в кустах возле фабрики. А пахли как сладко! Ванилью, цукатами. Алчоба, отец четырех сыновей и множества девочек, просто растаял. Башрут его в чувство, однако, привел.
– Алчоба, Ислам пропадает. Пора.
– Я знаю, Башрут. Пропадает Ислам.
– Закончим вот лестницу, деньги получим и сразу домой, дорогой мой Алчоба.
– А я бы остался, Башрут. Ненадолго.
– Нельзя нам, Алчоба. Ислам пропадает.
– Ты прав, дорогой мой Башрут. Пропадает. А видел ты Катю? Красивая, правда?
– Зачем тебе Катя? Ислам пропадает.
– Закончим тогда только лестницу, ладно? И сразу домой. Тебе нравится Катя?
– Алчоба! Красивая женщина, да. Но ведь пропадает наш брат, наш Ислам. А Катя, Алчоба, не носит платка. Лицо ее, брат мой, бесстыдно открыто.
– Я это заметил, Башрут, дорогой. У нас в Анатолии Катю бы эту побили камнями, а может быть, и забросали навозом. Ты помнишь, какой у нас свежий навоз?
– А помнишь, Алчоба, ты горную реку? А маки на склоне горы? А наш дом? Жена тебя ждет, дорогой мой Алчоба. Ислам пропадает. Пора уезжать.
Придя к полному согласию относительно своих будущих поступков, турецкие братья Башрут и Алчоба закончили перестройку и перекраску лестницы и тут же, забрав свои деньги, купили билеты обратно домой. Всем троим: Башруту Экинджи, Исламу Экинджи и тоже Экинджи Алчобе, влюбленному в ванилью пропахшую русскую Катю.
Реакция младшего брата Ислама была столь ужасной, неверной, жестокой, что Катю с ванилью забыли тотчас же. Увидев билет свой, Ислам побелел.
– Зачем это мне? Что еще за билет?
– Ислам, дорогой, все дела здесь закончены. Ты видел ведь лестницу? Как хороша!
– Езжайте одни. Никуда не поеду.
И сразу набычился, кровью налился.
– Поедешь, Ислам. Очень даже поедешь.
– Сказал: отойдите! Не троньте меня!
Башрут взял Ислама за смуглое горло. Алчоба скрутил его тонкие руки.
– Ты пьянствуешь, брат. С армянином к тому же. Позоришь семью. Ты поедешь, Ислам.
– Убью себя лучше, зарежусь ножом. Пустите меня! Я останусь в России!
– В России ты хуже таджика, Ислам. Нас не отличают от них, унижают. Вчера в магазине какой-то мужик назвал меня «чуркой». Ты слышишь, Ислам?
Ислам опустил свою гордую голову. Глаза стали мокрыми.
– Я с дэвушкой Верой поеду. Клянусь. А так – не поеду.
Алчоба вздохнул:
– Пойдем, дорогой мой Башрут. Что скажу.
– И я тебе тоже скажу, дорогой. Пойдем говорить. Подожди нас, Ислам.
Через пятнадцать минут братья вернулись обратно. Ислам неподвижно лежал на кровати.
– Мы будем просить ее мать. Всю родню. Они не откажут нам. Верно, Башрут?
– Конечно, Алчоба. Они не откажут. Мы турки, Ислам, дорогой. А не чурки. И дэвушка Вера поедет с тобой.
Вечером, на следующий день, в дверь Лины Борисовны позвонили. Лина Борисовна все лето была в ужасном состоянии: Лариса, ее непутевая дочь, жена Переслени, замкнулась, как будто ей мать – злейший враг. А Вера не то что отбилась от рук, она стала просто почти невменяемой. Вставала в двенадцать, ложилась в четыре, ни книг, ни газет никаких не читала. Компьютер забросила, он запылился, подруги ее больше не навещали, она их – тем более. Просили ее отдохнуть хоть на даче: там речка, и луг, и знакомые дети. Куда там!
– На дачу? Смеетесь вы, что ли?
Никто не смеялся, все слезы глотали. В двенадцать она быстро что-то съедала, потом долго красилась и уходила.
– Куда ты?
– Иду погулять.
– А куда?
– Какая вам разница?
– С кем ты идешь?
– Еще не решила.
– Ты хоть бы поплавала! Лето ведь, жарко.
– А я и поплаваю.
– Где?
– Где-нибудь.
И хлопала дверью. И все становилось беззвучным: таким, что только взмахнет вот крылом своим муха, и вы ее тотчас услышите. Страшно. Историй о том, как детей похищают, как целые баржи украденных девочек плывут далеко-далеко за границу, как в парках гуляют маньяки-садисты, как люди одни расчленяют других и, если им деньги нужны, то сдают изъятые органы темным делягам, а те их опять-таки переправляют куда-то в Америку или в Бразилию, – подобных историй вокруг было столько, что хоть к телевизору не подходи.
И Лина Борисовна не подходила. Ей очень хватало и без телевизора. Ребенок домой возвращался за полночь.
– Верунечка, где ты была, моя детка? – фальшивила бабушка.
– Ах, я не помню! Гуляла! Там так хорошо!
– Где, Веруся?
На это она пожимала плечами. Потом уходила в их старую ванную и долго плескалась, смеялась и пела. В четыре утра, наконец, засыпала. И так каждый день. Без покоя, без отдыха.
Итак, в ее дверь позвонили. Открыла. Стояли два турка, носы – как у коршунов.
– Ты – бабушка дэвушка Вера, скажи?
Она помертвела:
– Я бабушка… девушка… Что?
– Смотри на картина. Ислам на картина.
И в нос ей суют пару снимков. На снимках – Ислам, этот самый мальчишка.
– А Верочка где? Моя Вера жива?
Не поняли, переглянулись.
– Где Вера-а-а-а? – И ноги обмякли.
И тут подскочил – спасибо ему! – армянин дядя Миша. Как это ни странно, почти даже трезвый.
– Жива ана, очень жива! Нэ волнуйтесь! Они ее сватать пришли, вашу внучку! А русский язык – нэ радной их язык, нэ всо панимают, щто вы гаварите!
– Как сватать? Кого?
А турки кивают. Глаза их замаслились.
– Есть много картина. Смотри на картина.
Других пара снимков. Какая-то сакля. А может, не сакля. И рядом осел. Потом три горы, водопад и осел.
– Радное село, – объяснил дядя Миша. – Имэют хазяйства. Скот тоже имэют. Па нынешним-та врэменам и нэплохо. Зэмля людей может всегда пракармить.
– Вы что, все рехнулись? – И Лина Борисовна едва не захлопнула дверь.
– Пагади-и! – сказал дядя Миша и вдруг помрачнел. – Жила она с ним, твая внучка, жила!
– Как это… жила? Как вы смеете… Вы…
– Хател от тебя утаить. Нэ хател тебя агарчать! Если б дочка мая… Такое узнал… Я убил бы ее! А я нэ имею ни дочки, ни сына, семьи нэ имею, адин я савсэм!
И он горько всхлипнул. А Лина Борисовна схватилась рукою за сердце. Одни только турки остались стоять, ее прожигали своими глазами.
– Ты так нэ пугайся! Ты просто скажи: отдашь или нэт? Вот и вэс разгавор! Я думал, что раз уж такое случилось, так лучше па-честному. Ты нэ сагласна?
Тут Лина Борисовна все же опомнилась.
– Скажи им: спасибо за честь. Молода. Учиться ей нужно. Успеет ослов-то пасти. Обождем.
Отзывчивый Миша махнул рукой так, что братья все поняли. Глаза их потухли. Не оглядываясь на Лину Борисовну, Алчоба с Башрутом сбежали по лестнице, стуча каблуками турецких ботинок.
– Желаю вам, дама, харощива вэчэра, – сказал дядя Миша.
Слезами и криком закончился вечер. Неделю назад Лариса Генриховна уехала на дачу и увезла с собою Переслени, который опять все не спал по ночам, стоял у окна и глядел на луну, горящую белым огнем. Луна его мучила и изводила. Вот, кажется, что человеку луна? Где он, а где этот загадочный лик с провалами глаз, с лысым лбом, полузастланный каким-нибудь дымным, разорванным облаком?
А Марк Переслени стоял и смотрел. Бедная, ко многому привыкшая жена его, чувствуя, что прежнее веселое и энергичное состояние драматурга меняется, хотела, чтобы эти дачные розы и пение птиц, до того заполнявших задумчивый лес, что их крылья сливались с пятнистой листвою и часто казалось, что листья поют, а не птицы, – хотела несчастная Лара Поспелова помочь ему с помощью летней природы, поэтому даже и дочь свою Веру забыла на время и вся устремилась душою и телом к больному супругу.
Ознакомительная версия.