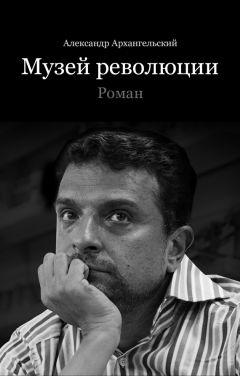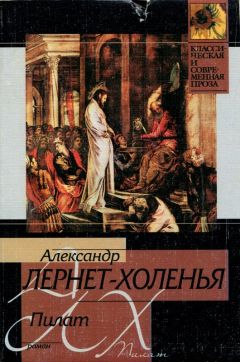И за что такое испытание – говорить о том, во что не веришь?
Сёма всполошился, снова замахал руками! Но по-другому, как напуганная птица машет крыльями, когда у нее отбирают птенцов.
– Да вы что, нельзя, они же на учете! Их закрашивать нельзя! Меня посадят!
– Опять неправильное толкование, дорогой Семён. Росписи останутся на месте, но мы их на время прикроем чехлами. Глядишь, придет другой владыка, утонченней – сразу снимем.
Сёма такой человек: никогда не спорит до конца. Высунется, как черепаха, коротко ответит, спрячется обратно, и оттуда, из-под панциря, глухо добавит: ну да… ну так…
– А… если чехлами… а они не задохнутся? Нет? Ладно, как директор скажет.
Что скажет директор, заранее ясно. Но директор далеко, в Москве, и когда вернется, не объявлено; угрожающая дама Цыплакова отправлена директором в командировку. (Архимандрит и опасается ее, и уважает – когда в конце 70-х храм собирались раскатать и переправить в музей деревянного зодчества под Вологдой, Анна Аркадьевна пригрозила областному управлению культуры, что дойдет до Брежнева; те отступили.) Так что бучу никто не поднимет. Зато владыка рядом, и если что решил, то своего добьется.
Поэтому они с Тамарой Тимофеевной купили ткани, здесь же, на музейной фабрике; для постных чехлов креп-сатин, для мясоеда белый штоф; субботним вечером вдвоем пристроились на солее. Тамара звучно нареза́ла заготовки, а насквозь простуженный отец Борис туго натягивал ткань, чтобы ножницы легко скользили. Он был сейчас как мальчик, помогающий маме сматывать пряжу в клубок.
– Ну, долго нам еще?
– Отче, не спеши. Лучше натяни как следует. Ровно. Вот таак, хорошо. А ты не чувствуешь, как пахнет?
– Ничего не чувствую. Тебе не кажется?
Тамара Тимофеевна отложила ножницы, приоткрыла боковую дверцу алтаря.
– Неет, я точно говорю. То ли крыса сдохла, то ли что. Как же ты служил, отец, я не пойму. Пойди, посмотри за престолом.
Тамара Тимофеевна убеждена, что батюшка – столп православия, но в быту несмышленый младенец; ей доставляет удовольствие покорно слушаться его во всем церковном, властно помыкая в жизни. Отец архимандрит не возражает; хочет так думать – пускай.
Он благоговейно обошел престол. Вроде все в порядке, ничего плохого не заметил. На всякий случай опустился на одно колено, прощупал одежды престола, как портной прощупывает складку. Под колючей парчой обнаружилось странное вздутие. Сунул руку под край, заранее брезгуя крысой, и наткнулся на твердое, гладкое. Отвернул края; за ними лежал отвердевший котенок, с вытянутыми лапами и приоткрытыми остекленелыми глазами. Первой грешной мыслью было: музейные решили отомстить. Но отец Борис перекрестился и прогнал этот вражий соблазн; не могли музейные так сделать, они же не бабки-колдуньи, которых на Крещенье спросишь строго – «Воду для чего берешь? не для гаданий?» – «Для каких таких гаданий, батьшк, никаких гаданий, батьшк, не знаю». А наутро обнаружишь под порогом обгорелое воронье перо, обвалянное в сосновой смоле, над которым долго колдовали, поминая тебя за упокой.
– Фу, смердит, унесу.
– Куда?
– Вам, отчинька, лучше не знать.
Когда Тамара недовольна, она переходит на вы, и тон у нее становится насмешливо-елейный.
Настроение совсем упало; закончив неприятную работу, Тамара милостиво приняла благословение, и они разошлись по домам, думая, что неприятности окончились; не тут-то было. Воскресным утром, распахнув врата, отец Борис не поверил глазам: между окном и кануном, возле закупоренных философов, сутулясь от смущения, стоял их противный завхоз. Выскочка, нахал и атеист. Вот уж кто ни разу сюда не заглянул, ни на Пасху, ни на Рождество: в жизненные планы Желванцова встреча с Богом как-то не входила. Как, впрочем, у большинства в их непонятном, смазанном каком-то поколении; молодые, даже юные, а идеальных устремлений ноль, только деньги, деньги, деньги…
Но чудны дела Твои, Господи; никогда не говори никогда. Или Желванцов узнал о том, что росписи закрыты? И пришел объясняться? Навряд ли. Он мог обождать до обеда, не теряя воскресного утра, данного нам в сновидениях. Значит, что-нибудь случилось, и причем такое, что проняло и твердокаменного Желванцова.
– Миром Господу помооолимся! Гоооосподи помииилуй!
Желванцов не исповедовался, тем более не причащался, но ко кресту, однако, подошел, недовольно коснулся губами. После чина прощения, который сегодня пришлось сократить до предела, – некому было вставать на колени, кладя покаянный поклон, радостно и горько лобызаться в торжественной и страшной тишине, – отец Борис позвал Желванцова позавтракать. Тот бормотнул: да я уже покушал, разве чаю? И, уплетая яичное жарево, стал возбужденно тараторить: Бог знает, что творится! Бог знает что! Ночью позвонила сторожиха: яжежговорила, развели котов, не кормите, они, яжговорила, мрут, а мы за вами убирай. Желванцов не стал вникать. Ну, сдох кошак, и сдох. Делов-то. В семь утра объявился сантехник. В подвале сорвало силуминовые стыки, хлынула горячая вода; сантехник воду откачал, принюхался – такая вонь, пошарил возле батареи, а там раздувшийся отец Игумен.
Желванцов насторожился, учинил обход. У закрытой на ночь двери в шомеровский кабинета валялись три или четыре кошки. Он перепугался, появилось нехорошее предчувствие, потому что никакой санобработки не было и быть не могло: кто же травит крыс в конце зимы? Словом, Желванцов решил, что надо в церковь.
– А ведь у меня такая же история, – сказал отец Борис.
И Желванцов позеленел.
А дальше все пошло по нарастающей. Околевших котов находили в запасниках, в мастерских, на кирпичном заводе, на складе, за кипами тканей. Дохлых кошек бережно, в чистых тряпочках, приносили узбеки. Брезгливо, совками, вышвыривали на улицу свои. Вечером явился Сёма с тяжелым целлофановым пакетом из «Пятерочки»; пакет оттягивала кошка Мура; Сёма был напуган до смерти. Таким Желванцов его еще не видел; глаза бегают, кожа пятнами, связать двух слов не может.
Кошек складывали на задах хозблока, под старой советской рогожкой; и хорошо еще, что было морозно, весна не вступила в права.
…Шомер долго смотрел на печальную горку, играл желваками, пыхтел. К боли от ушиба примешивалась новая тоска. Теодор вспоминал, как перед самым отъездом в Москву ходил по пятам за Игушей и подлизывался к мерзкому коту, уговаривая его налить в пустой поддон: у кота вываливалась шерсть и воспалились дёсны, ветеринар велел сдать анализ мочи, причем не позже, чем за шесть часов до лаборатории.
– Воот мы какие сегодня… ай, ты, Гууша, ххарроший мальчик… мурчит, заливается… кто сегодня сходит в туалет… ну, Гушенька, давай, пописай.
Игуша источал доброжелательство, принимал подачки и мурлыкал. Но как только его ставили в поддон, осторожней, чем фарфоровую вазу, он брезгливо дергал хвостом и царственной походкой уходил из туалета. И когда Игумен злобно напрудил на кожаное кресло в кабинете, Шомер был счастлив, как в детстве. Серебряной мещериновской ложкой (хорошо, никто не видел) зачерпнул из лужицы, перелил в зеленоватую мензурку, бросил на испорченное кресло мятую салфетку, чтобы все впиталось, и полетел на полной скорости в лабораторию…
И вот он остался один. Нету теперь у него ни Игуши, ни других любимых кошаков. Шомер неумело прослезился. Не скрываясь, вытер слезы тряпичным носовым платком, – бумажных он не признавал, высморкался, и отсыревшим голосом велел:
– Санэпидемстанцию не вызываем. Сжигаем у них, в котловане. Я отплачу. Я клянусь, отплачу.
А потом отошел в сторонку, чтобы никто не услышал, и набрал приемную Иван Саркисыча.
– Барышня? Да-да, я понимаю, вы не барышня. Простите. Передайте, что звонил Теодор Казимирович Шомер. Да, тот самый, которому. Так. Так. Получил, и по почте отвечу. Но вы лично передайте, ладно? Что я подпись поставлю, пусть отправляют в печать.
Ночью котлован напоминал подсвеченную хеллоуиновскую тыкву; желтая рожа кривлялась и корчилась; остро пахло обгорелым мясом и паленой шерстью.
В понедельник, завершив дела у Юлика, Павел съездил на Горбушку: здесь за полторы цены предлагали новую модель планшетника, еще не поступившую в российскую продажу. С удвоенной мощностью камеры, юисбишным входом. Павел еле удержался, чтобы сразу не открыть коробку и под хипстерскими взглядами торговцев не начать ее оглаживать и изучать.
Пластиночка и впрямь была почти живая, ее хотелось приласкать, он испытывал физическое наслаждение, передвигая яркие иконки и мягко прикасаясь к буквицам. Пока он старомодно тыркал в клавиши компьютера и энергично двигал мышью, натирая мозоль на запястье, никакого чувства избранности – не было; было плотное чувство труда. А как только стал поглаживать планшетник, в жестах появилось вялое высокомерие. Сразу поменялась и осанка: Саларьев полуразвалился в кресле, при этом он как будто бы слегка подрос, а комната, наоборот, уменьшилась в размерах. Павел отрывал глаза от тонкого экрана и поглядывал на все вокруг с сочувствием и гордым превосходством. Как чересчур здоровый посетитель смотрит на больных через прозрачное стекло реанимации, пронизанной холодным синим светом.