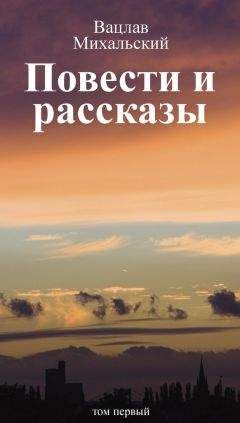Не упади тогда мой дед Степан, не выматюкайся от всей души, кто его знает, может быть, и меня не появилось бы на белом свете, а появился бы у моей мамы кто-то другой, но совсем не я.
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого?
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Тогда я еще не знал этих стихов Владислава Ходасевича, точно так же, как не был ни сед, ни сер, ни желт. Тогда мне было 37 лет. Как казалось тогда: уже 37. И как я понимаю сейчас: всего 37.
Почему я чуть не заплакал? И почему устремился к уединению, не забыв прихватить с собой почти полный высокий стакан абрикосовой ракии?
Конечно, песня Эрато тронула меня, конечно, я был уже под хмельком. Но главное было в том, что сегодня, 24 октября, моей маме исполнилось бы 58 лет. Моя мама умерла всего 14 месяцев тому назад. Поехала в Новочеркасск к старшей дочери Елене и там скоропостижно умерла. Там она и похоронена, совсем недалеко от своей родины – Таганрога. Кстати сказать, и от моей родины. Я прожил в Таганроге первые девять месяцев и потом не бывал никогда в жизни. Бывать не бывал, но жадно внимал рассказам о том, как родился я семимесячный в тот июньский день, когда моя мама и ее старшая сестра Нина с четырех часов утра стояли в очереди под тюрьмой с передачей для моего отца. Передачу не приняли. У мамы начались схватки, она могла родить в молодой кукурузе, но тетя Нина кое-как довела ее до родильного дома. Состояние моей мамы было критическое, отошли воды. Врач по фамилии Папиков распорядился вести мою маму в родилку. Но тут же медсестра-сексотка стала орать:
– Что вы делаете? Я ее знаю – она жена врага народа!
– Вон! Вон! – закричал на нее в ответ врач Папиков. – Здесь нет врагов, а только роженицы.
С тех пор как я случайно подслушал этот рассказ мамы, кажется, тете Нюсе, я раз и навсегда запомнил фамилию Папиков.
Я благополучно родился. Недоносок, но все-таки живой и здоровый. А в тот день, когда мы с мамой выписывались из роддома, врача Папикова взяли прямо на работе. Да, так тогда говорили о людях: «его взяли». И всем было понятно, кто взял, куда и для чего. Как и мой отец, врач Папиков сгинул навсегда.
Я сидел на теплых камнях древнегреческого театра, иногда пригубливал ароматную, жгучую ракию, смотрел с высоты амфитеатра на заметенную светлым песком сцену, видавшую и греческие трагедии, и бои гладиаторов. Римляне не один век хозяйничали в этих местах. Да и Филиппы стали известны всему древнему миру не потому, что их основал отец Александра Македонского, а потому, что при Филиппах в октябре 42 года до нашей эры произошла битва двух крупных римских армий: с одной стороны – либералов, а с другой – консерваторов. Победили либералы, в результате чего, как это всегда бывает, хоть и плохонькая, республиканская власть, хоть и плохонькая, но демократия были заменены единоличным управлением императора.
Пригревшись на солнышке и поглядывая вниз на заметенную светлым песком сцену, я вяло думал обо всем понемножку, абрикосовая ракия сопутствовала моим размышлениям. Я думал о гречанке Эрато, говорившей голосом и словами тети Моти, а спевшей мне песню тети Нюси; о моем деде Адаме, который, как и мама, тоже был уже не на Земле, а в земле; об Александре Македонском, который только из-за своего дурного настроения, вызванного болезнью и смертью любимого друга Гефестиона, приказал четвертовать лечившего того врача и вырезать в один день десять тысяч безоружных мужчин, беззащитных женщин, стариков и старух, детей и младенцев – все племя косеев. Всех без разбору и без малейшей вины перед ним – Александром Великим.
И в чем, спрашивается, его величие? В дикой жестокости? Выходит, так, что если хочешь остаться в памяти людей на века – пролей реки человеческой крови, пролей как можно больше… К тому времени я много чего прочел об Александре Македонском, и он уже не представлялся мне героем. Хотя в те времена я еще не знал стихов великого русского поэта Георгия Иванова:
Рассказать обо всех мировых дураках,
Что судьбу человечества держат в руках?
Рассказать обо всех мертвецах-подлецах,
Что уходят в историю в светлых венцах?
Для чего?
Тишина под парижским мостом.
И какое мне дело, что будет потом?
Чуть больше года прошло после смерти мамы. Это совсем не тот срок, когда сын или дочь выходят из-под невидимого посторонним, но постоянно ощущаемого осиротевшими того прозрачного колпака оцепенения души, что накрывает их с первого дня и держит нерушимо года три.
В детстве, отрочестве, ранней юности я, безусловно, любил мою ласковую, красивую, умную маму, но виделись мы редко, потому что в основном я жил у Ады, так что настоящего родства душ в те времена у нас не было. Наверное, это родство началось между нами с того дня, когда пришло казенное письмо об отце с лиловым штампиком и мама рассказала мне всю правду.
Что касается всех четырех моих бабушек, то я любил их всегда, сколько себя помню.
А деда Адама?
Во-первых, не деда, а Аду. Во-вторых, он всегда был для меня важнее всех, точно так же, как и я для него.
«Дитяка хце!» (Ребенок хочет!); «Тшимайся, дитяка, тшимайся!» (Держись, ребенок, держись!). Вот те два главных, определяющих положения, которых всегда и неукоснительно придерживался в отношении меня Ада. Он верил в меня безраздельно, безоговорочно, всегда подбадривал и был на моей стороне во всех случаях жизни. И когда я трех-четырехлетний купался в саманных ямах и к ужасу бабушек мог явиться домой нагишом, потому что прежде, чем прыгнуть в яму, я снимал свои короткие штанишки, почему-то всегда болтавшиеся на одной помочи. И потом, когда меня отдали в школу и первые четыре года обучения, мягко скажем, я не блистал успехами, а в более старших классах вообще стал позором семьи, чем и прославился даже в педагогическом мире. И когда вместо того, чтобы, как все приличные дети, поступить в институт, я поступил на завод железо-бетонных конструкций по специальности «хватай больше – кидай дальше». И когда я пошел служить в армию и из-за своего нерадения и вспыльчивого характера как следует познакомился с гауптвахтой, даже с одиночной камерой. И когда вдруг, на удивление всем моим бывшим учителям, всем родным и знакомым, всем, кроме Ады, я оказался студентом Московского университета.
Ада торжествовал, его синие глаза блистали, а все остальные недоумевали или говорили от всей души: «Дуракам везет», или «Наглость – второе счастье», или «Этот везде протырится».
Мне мало чего жаль в прошедшей жизни. Но, конечно, обидно, что мой Ада не увидел, как я «протырился» в московские профессора, притом еще вполне молодым человеком, слегка за тридцать.
С младенчества Ада вселял в меня надежду на мои будущие успехи. Он всегда играл со мною на повышение. И у меня нет сомнений, что эта его игра (а Белый Адась был крупный игрок) очень помогала и помогла мне в жизни.
Ада никогда не читал мне нравоучений. Всегда прощал мои шалости и ошибки. Но в то же время он никогда не ласкал меня, даже не гладил по голове. Ада всегда относился ко мне как к ровне, и я всегда чувствовал его абсолютную веру в меня, его готовность положить за меня даже жизнь и то удивительное равноправие между нами, которое раз и навсегда учредил Ада. Наверное, с точки зрения элементарной педагогики он был плохой воспитатель, а по мне – в самый раз. Наверняка, не будь Ады, я вырос бы совсем другим человеком.
* * *Простите великодушно.
Сегодня перечитал написанное и впал в смятение: зачем это я подарил какому-то археологу моих бабушек, моего незабвенного деда Адама? Только из-за того, чтобы читающие не поняли, что я – это я? Только из-за какой-то сомнительной застенчивости? Из-за того, чтобы отдать дань литературным условностям? Я, автор, спрятался за спину вымышленного героя археолога?
Получается так.
Да, я имею представление о работе археологов.
Да, я бывал в греческом, а можно сказать, в македонском порту Кавала, в его Археологическом музее; я даже купил там боевой шлем времен Александра Македонского – точнее, его крохотную серебряную копию, не больше грецкого ореха. Этот шлем и сейчас стоит на моем письменном столе.
Да, я бывал в Филиппах и сидел на вершине древнего амфитеатра.
Да, я бродил в апельсиновых рощах между Филиппами и Кавалой, где промелькнула впервые сама возможность моей будущей жизни. Все это так.
Но теперь, чтобы не переписывать написанное, считайте, что я – это я, а археолог – условность, которая вполне может уступить мне место, была бы моя воля.
Воля моя на то есть. И пусть с этой минуты археолог станет лишь литературным приемом и вернет мне раз и навсегда и Бабук, и тетю Нюсю, и тетю Мотю, и тетю Клаву, и моего деда Адама, и вообще все мое детство, отрочество, юность. А старостью я поделюсь с моим двойником-археологом щедро. Ее теперь у меня и на двоих хватит!
XXXVIIIХороший напиток абрикосовая ракия, хоть и крепче водки, но такой ароматный, что и закусывать не надо. Тем более что я три часа провел в застолье. Теплынь в Филиппах, красота, а у нас в Москве дождь со снегом и темень. Эта вечная темень, когда полгода проходят в ночи, а на белый день выпадают считанные часы. Я был благодарен судьбе за то, что она подарила мне нечаянную радость побывать в Греции, а точнее, вот здесь, между Кавалой и Филиппами, где в апельсиновой роще однажды промелькнул и завязался в клубок сам шанс моего появления на свет Божий.