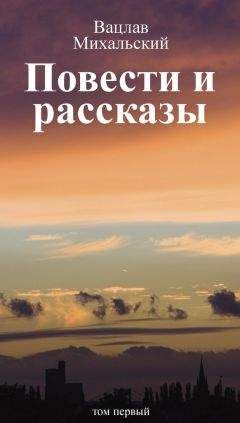Такой же везучести и способности к своему собственному волеизъявлению, вроде бы вопреки здравому смыслу, был и мой Ада. Он и из Ростова уехал в связи с невероятными обстоятельствами. Что касается его перепугавшей и бодрствующих, и спящих реплики на вокзале, то сейчас она мне понятна: у него два сына были в неволе без вины виноватые. Да и слишком много он знал о власть предержащих, настоящего, подлинного, а не мифологизированного пропагандой. Помню, что когда Ада случайно что-то рассказывал о том, другом, пятом или десятом вожде, моя мама обычно от души вскрикивала: «Ой, Ада, что вы говорите! Уши вянут!» А потом выяснилось, что все, что говорил мой Ада, была житейская правда. До сих пор помню, что от него я впервые услышал такие имена, как Миронов, Думенко. А подавляющее большинство граждан и до сих пор их не слышало. Теперь, на примере Ады, я понимаю, что многие люди очень многое знали, но кнутом и железом их обучили помалкивать.
У Ады два сына были арестованы по всем известной пятьдесят восьмой, а сам он по политическим статьям никогда не привлекался. Трудно сказать почему. Наверное, его защищала репутация знаменитого картежника и человека, неоднократно привлекавшегося по статьям административным и уголовным. Собственно, с таким очередным привлечением, не знаю, за что, и было связано невероятное происшествие, с которого я начал. Как я сейчас знаю, Ада не был арестован, а только проходил по какому-то крупному делу в качестве свидетеля. Какой-то важный следователь вызвал его на допрос. Разговор у них что-то не заладился, слово за слово, и так сцепились, что следователь постучал Аде рукояткой нагана по голове, как следует постучал, до крови. В те времена непременным атрибутом всех мало-мальски важных кабинетов был граненый графин с водой, стоявший на столе. В ярости мой дед Адам мгновенно схватил за горлышко графин и дал им обидчику по голове. К счастью, воды в графине было немного и потерявший сознание следователь в дальнейшем остался жив.
А мой Ада, схватив наган, бросился к двери, в которой торчал ключ, и запер ее на два оборота. Затем он проверил наган – обойма была пустая, а на столе под стеклом лежал список высоких чинов. Тут же стоял черный телефон. Ада позвонил самому верхнему из списка. Тот неожиданно ответил сам, а не секретарша.
– Я Белый Адась, – сказал Адам.
– А-а, привет!
Ада коротко объяснил ситуацию.
– Сейчас буду. Никому не открывать. Я в соседнем здании. Жди.
– Пароль? – спросил мой опытный дед.
– Якорь.
– Отзыв: цепь.
– Жди.
В результате мой Ада был отпущен домой, притом в местном медпункте освидетельствовали его рассечение на голове и сделали перевязку.
А следователь попал в больницу, а потом тоже освобожден, но от должности: «за нарушение социалистической законности».
Выяснилось, что следователь и прокурор, которому позвонил Ада, – злейшие враги. Таким образом, мой Ада спасся и немедленно уехал в Дагестан, который знал и любил с молодости.
XXXIXЗа долгие годы он потемнел и засалился, но я до сих пор пользуюсь тем бумажником из хорошей светло-коричневой кожи, что подарил мне Ада, когда я окончил университет. Как человек рисковый, а значит, обязательно суеверный, он вложил в одно из отделений портмоне зелененький трояк как гарантию того, чтобы у меня не переводились денежки. Не знаю, как будет дальше, но пока зелененький советский трояк как бы стоит на страже моих материальных интересов и худо-бедно, но не позволяет свалиться мне за черту.
На лицевой стороне бумажника-амулета выдавлен символ Вильнюса – башня Гидеминаса, а сверху написано по-латыни viliniaus. Как я сейчас знаю, это Западная башня Верхнего Виленского замка, что стоит на Замковой горе, возвышающейся аж на 142 метра над уровнем моря. Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Да потому, что, как я сейчас знаю, моя Бабук, она же по паспорту Мария Федоровна, а на самом деле Мария Фердинандовна, была наполовину литовкой, наполовину немкой, а выросла и жизнь прожила среди русских, поляков и греков.
Я уверен, что, даря мне литовский бумажник, Ада не имел в виду никаких намеков, просто попался в магазине хороший бумажник из Прибалтики, он и купил его в подарок внуку.
Что было у меня тогда в бумажнике?
Портреты дочерей, Татьяны и Зинаиды. Загранпаспорт. Зеленый советский трояк. Небольшая советская и маленькая греческая денежки. И еще у меня там лежал заветный прямоугольничек, вырезанный из ученической тетради в косую линейку и с одной стороны покрытый разборчивыми каракулями моего любимого Ады, исполненными химическим карандашом, видно, перед войной они были в ходу.
Я прихватил с собой от пиршественного стола большой высокий стакан сорокапятиградусной ракии да и не поскупился налить его почти полным. Пригревшись на солнышке и разомлев, я выпил за Бабук, за Аду, за тетю Нюсю – за всех, кто был уже не на Земле, а в земле. Потом достал из кармана легкого пиджака бумажник с башнею Гидеминаса, вынул из него заветный прямоугольничек, почти квадрат. Давным-давно я вырезал его из листка тетради в косую линейку, листка, на котором было написано письмо Ады к моей маме. Я когда-то нашел этот листок между страницами «Анны Карениной», в самом начале ее четвертой части. И вот теперь, на теплых камнях древнего амфитеатра, под голубыми небесами великолепной Греции я в который раз прочел отчетливые каракули моего деда, не разделенные ни знаками препинания, ни заглавными буквами:
«зина
тибе сдес буде лутше и детям спокой
бабук будит нянчит и карова
немецка дает малака литрав 30
я для внукав ни пожалею
сдес я первый чилавек кормим
свиню англиску на пудов 20
приижай нимедлина
ада»
Я человек не скорый на слезу, а тут бережно положил квадратик с письмом-реликвией на свое место в бумажник и стал тихо, радостно плакать. Наверное, я много выпил, наверное, ракия действительно «деликатный напиток», как выразился при моем посещении портовой таверны официант Александр с фиолетовыми глазами Александра Македонского. Возможно, все это так, но думаю, что не совсем так.
Я тихо плакал, и у меня с души как будто сдвигалась каменная плита. Я плакал не о том, что умерли Бабук, Ада, тетя Нюся, моя мама, что неизвестно куда делась тетя Клава с ее вечным фингалом под правым глазом, не о том, что тетя Мотя уехала куда-то в Донбасс к младшей сестре. Нет, я не горевал по своим родным, а плакал от счастья, что мне выпала доля жить вместе с ними на этой земле. Гуртом – как говаривала моя дорогая тетя Мотя.
Как-то само собой вспомнился мамин рассказ о нашем приезде к Аде, в тот самый саманный дом на берегу поросшей ежевикой канавы, где прошло мое детство.
Никакой немецкой коровы, которая бы давала 30 литров молока в день, у Ады не было. Точно так же, как не было и английской свиньи на пудов 20. В характере моего деда по отцу Адама была такая черточка: фантазия опережала у него реальность. Но самое удивительное, что потом – лет через 7, 10, 15 – все сбывалось. Потом появилась у нас и немецкая корова Красуля, которая давала не 30, а почти 40 литров молока в день, и английская свинья Белка на 20 пудов. Потом даже я, легендарный оболдуй и неуч, в которого свято верил только один Ада, вдруг ни с того ни с сего «протырился» в ученые.
Единственное, что соответствовало в письме действительности, так это то, что подчиненные Аде шоферы и механики очень уважали его за абсолютное знание автомобиля, за широту, щедрость, незлопамятность, отходчивость и всегда говорили о нем очень искренне и торжественно: «Адам – первый человек».
Прежде чем выехать в Дагестан, выставленные из своей заводской квартиры на тротуар мама, Ленка и я жили у маминой старшей сестры и моей молочной матери тети Нины.
Чтобы хоть что-то зарабатывать, ночами мама писала маслом на оборотной стороне клеенки прикроватные коврики с белыми лебедями в голубых озерцах, по берегам которых росли экзотические цветы. Днем мама торговала этими ковриками прямо на улице – на холодном ветру, на таганрогской мигичке (так назывался там мелкий-мелкий обложной дождь), в босоножках на босу ногу, потому что ни чулок, ни носок не было, в ситцевом платьице и каком-то обтерханном плащике с чужого плеча. Когда нас выбрасывали из квартиры, то фактически ничего не дали взять, и мама унесла только то, что смогла захватить в один узел беременная женщина. Я еще не родился на свет, а моей сестре еще не было и трех лет, так что носильщик из нее был слабый, хотя она и прихватила плюшевого медвежонка Вадика и куклу Марысю. Хозяйственная девочка была моя старшая сестра Ленка.
Масляные краски и кисти остались от маминого старшего брата Мити, который учился в Москве во ВХУТЕМАСе и собирался стать большим художником. Все начинающие собираются стать большими – это нормально. А вот как ему удалось скрыть свое лишенство и поступить в знаменитый институт, я не знаю. Осенью первого года большой войны Митю убили в ополчении под Москвой, в ополчении, куда он тоже пробрался незаконно, потому что «лишенцы» не имели права с оружием в руках защищать свою Родину.