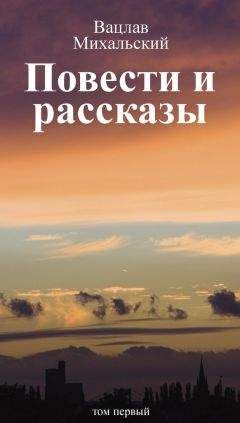– Бумажки сейчас оформим. Забирайте.
И вот мы везли Аду домой, в последний, все-таки достроенный им большой саманный дом, с которого я и Ленка потом даже получили наследство.
В высоком черном небе летела вслед за нами полная ядовито-зеленая луна. Мы везли Аду в кузове грузовика, тетя Мотя сидела в кабине. Брат говорил, что на мне была белая рубашка, а Ада был накрыт белой простыней, и от его тела все еще исходило тепло.
В память моего любимого деда Адама я допил последний глоток ракии. Взглянул с высоты на древнюю сцену театра, а там уже не было никакой больнички, никакой луны, никакой бортовой автомашины. На сцене шли фаланги Александра Македонского. Шли строем и все в маленьких серебряных шлемах с высокими гребешками, точно таких шлемах, как я купил на память в Археологическом музее Кавалы. Все воины были маленького росточка, не больше тех, вырезанных из газеты солдатиков, которыми я играл, бывало, на лоскутном одеяле.
Вон, кажется, мелькнул впереди голубой плащ самого Александра. Вон прошли гидасписты, не только в серебряных шлемах, но и с серебряными щитами. Я понимал, что Александр Македонский ведет свое войско на Индию. Вот сейчас они минуют сцену древнегреческого театра, пойдут дальше и дальше, пройдут тем узким песчаным коридором между горами и Каспийским морем, где прошло мое детство, и наконец вступят в Индию, чтобы убить там много-много людей и разгромить индийского царя Пора.
Воинов было не сосчитать, они все шли и шли, пока в воздухе не запахло гарью отработанного машинного масла и выхлопами сгоревшего бензина. Это в нашем лагере завели автомашину, наверное, дело шло к отъезду. Ветер дул в мою сторону, и на меня пахнуло знакомыми мне с «мальства» запахами бензина, автола, солидола, промасленной ветоши. Запахами гаража, под навесом которого стояло когда-то много полуторок – грузовиков «ГАЗ-АА».
Скрылась из глаз последняя фаланга македонского войска, ушел строй.
Снизу, из нашего лагеря, кто-то махал мне рукой, дескать – давай сюда! Это отвлекло меня от сцены, а когда я взглянул на нее снова, там уже появился школьный двор, обнесенный крашенным к 1 сентября зеленым штакетником.
Недели две бабушки собирали меня в школу. Ученических портфелей тогда не было, и Бабук сшила мне холщовую сумку с несколькими кармашками. Кажется, тетя Клава, удачно расторговавшись газированной водой с сиропом, принесла из города чернила, чернильницу-непроливайку, ручку с перышками. Тетя Нюся сшила мне новую рубашку и новые штаны, потому что Ада «достал» где-то ручную швейную машинку Zinger, которой все бабушки были рады как новому члену семьи.
Весной я тяжело болел малярией и даже не видел День Победы. Помню только, что мне было так холодно и меня так подбрасывало над кроватью, что тетя Нюся чуть ли не садилась мне на грудь. Александр Македонский тоже болел малярией, но в этом, пожалуй, единственное наше сходство.
31 августа меня стригли, обрезали ногти на руках и ногах, купали все в том же пропахшем машинным маслом поддоне картера. С раннего утра 1 сентября все четыре бабушки начали собирать меня в школу. Не участвовал в этом только Ада – он еще с зарей убежал в город «в одно место, к одному человеку».
С тяжелым сердцем двигался я к школе, мне очень не хотелось за забор. В левой руке у меня была холщовая сумка со школьными причиндалами, а правую крепко держала в своей руке тетя Нюся. Слишком хорошо зная меня, она понимала, что я ведь могу и убежать в последнюю секунду.
Это была начальная школа. На лысом дворе без единого деревца или кустика малышня разбиралась в две шеренги.
Подведя к зеленой калитке, тетя Нюся нежно, но властно толкнула меня в спину:
– С Богом, деточка! – и тут же захлопнула за моей спиной калитку.
Меня ставили в строй.
Последний год войны. Стаська сидит на подоконнике, ему очень хочется гулять. Но во дворе лужи, грязь – и в бурках, стеганных из одеяла, бабушка не пускает. Стаська рисует на старой порыжевшей газете танки. В его воображении – дымная степь, туполобые танки с огромными белыми крестами (Стаська видел их в кино) и отец: он лежит в окопе за пулеметом и строчит, строчит по фашистским гадам.
Стаська помнит отца. На одной руке папка поднимал Стаську к потолку. Тепло пахла широкая папкина грудь. А когда начинал подкидывать и ловить у самого пола, он визжал от хохота, а мама просила: «Василий, ну, хватит, уронишь, Василий!»
Теперь мама и бабушка плачут. Говорят, что он умер, погиб в боях за Белую Церковь. Но Стаська не верит. А бабушка успокаивает маму:
– Кончится война, поедем, разыщем могилку, цветочки на ней посадим и подсолнухи.
Папка любил подсолнухи.
Сегодня – праздник. Сколько он помнит, его всегда отмечали в семье: папка и до войны был военным.
Бабушка оторвалась от работы (из старых тряпок и лоскутов она вяжет половики), высохшей, как табачный лист, рукой убрала за уши седую прядь. Посмотрела на внука и, улыбнувшись, решила:
«Нажарю тебе семечек, давно их берегла, празднуй!»
Уже давным-давно бабушка, мама и он, Стаська, едят вареные мороженые бураки и по тоненькому, похожему с виду на кизяк кусочку хлеба. В мамину зарплату бабушка покупает баночку пшеницы, мелет ее на кофейной мельничке, варит кашу. И вдруг – семечки! Настоящие, жареные.
– Ура!
Из запретного сундука бабушка достала узелок, поставила на плиту сковородку, высыпала в нее крупные семечки. Семечки стали потрескивать; он мешал их деревянной ложкой и, обжигаясь, клал в рот.
– Щелкай, празднуй, – вздохнула бабушка и вышла в сарай за дровами.
Под окном грянула песня. Стаська прилип к стеклу. Шли солдаты. Мальчишка заметался по комнате. Он приготовил к этому дню на клочках бумаги чуть ли не два десятка рисунков, теперь этот подарок вдруг показался до обидного малым. Он схватил горячую сковородку, высыпал семечки в подол рубахи и выскочил из комнаты.
Он бежал и не видел перед собой ничего, кроме длинного строя солдат.
– Дяденьки бойцы, с праздником вас! С праздником вас, дяденька командир, с днем Красной Армии! – Безусый веснушчатый лейтенант, шагавший впереди, подхватил мальчонку на руки. Стаська вертелся на руках его и, блестя глазами, поздравлял всех вокруг:
– С праздником вас, нате от меня в подарок!
Строй заколебался и рассыпался. Стаська раздавал горстями теплые еще семечки. Раздав все, вытряхнул рубашку и полез за пазуху:
– А это картинки я нарисовал, тут про войну, – объяснял он, улыбаясь солдатам.
– Скоро победа, правда?
– Скоро, сынок, скоро!
– А зовут-то тебя как?
– Стасик, Стаська.
– И тебя с праздником, Стасик!
– А папка-то твой, небось, тоже воюет?
И еще не услышав ответа, солдаты поняли: спрашивать было не нужно…
– Погиб папка, – первый раз Стаська сам произнес эти слова и добавил: – Пал смертью храбрых в боях за Белую Церковь…
Стало тихо-тихо. Офицер крепко поцеловал мальчонку. Сообразив что-то и повеселев, тот попросил командира:
– Ты только не ешь все семечки. Спрячь немножко. А когда придете на Украину, в Белую Церковь, посади на могиле моего папки. Он любил подсолнухи. Они, знаешь, за солнышком вертятся. Я сам видел, мне мамка на огороде показывала.
– Стасик! Домой! Опять хочешь заболеть? – кричала бабушка. Словно подхлестнутый, Стаська соскочил с рук офицера и побежал. На полпути он остановился, вытянулся в струнку и, приложив растопыренную руку к виску, застыл, отдавая честь.
– Рота! Смирна-а! Равнение на… пра-ава! – взвился над строем пронзительный фальцет. Десятки голов метнулись к правому плечу.
Они проходили перед маленьким Стаськой, как на большом параде не всегда ходят перед генералами.
– Дяденька командир, не забудь только, посади!
Стаська ликовал, не страшна ему была теперь грозная бабушкина расправа.
И еще долго потом, в кровати, тепло укутанный всеми одеялами, представлял он себе, как зацветут на дорогой могиле и потянутся золотыми головами к солнцу любимые папкины подсолнухи.
…Не пришло только Стаське в голову, что семечки-то были жареные.
Отец Сашки, шофер колхозной полуторки, погиб в нелепой катастрофе за три дня до рождения сына.
Часы остановились, недотянув двух минут до девяти.
После поминок, когда соседские женщины убирали в доме, дед Сергей хотел было подтянуть гирьку.
Он постоял, потянулся к цепочке и раздумал.
– Что, Аннушка, пусть стоят они, а?.. В память! – не то спросил, не то приказал он.
Невестка не ответила. Она лежала пластом, и через ее обугленные горем губы, казалось, не могло просочиться слово. И только кивнула согласно, простоволосая, тихая.
НАЧИНАЛОСЬ.
Дед Сергей сам сбегал в сельсовет за линейкой. И сам отвозил невестку в районный родильный дом.
И всю ночь просидел он под липой у этого великого, тайного дома.
На рассвете толстая, сердитая нянька принесла весть.