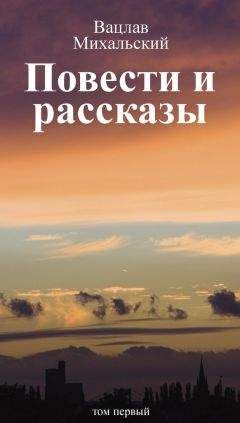Иной день маме удавалось продать коврик, и это было счастье. Но таких удачных дней выпадало совсем немного, а тут Ада прислал письмо, и мама решила уехать, чтобы «не сидеть на Нининой шее». Нас собрали в дорогу, проводили на вокзал и посадили в общий (то есть сидячий) вагон пассажирского поезда. В то время была большая амнистия уголовников, и мы ехали с ними. Мама рассказывала, что бандиты и урки не только ничем нас не обижали, но даже выделили нам спальное место, видно, сильно соскучились по добру.
Герой «Казаков» Льва Толстого Оленин и польские офицеры из царской армии ехали на Кавказ воевать, а меня девятимесячного везли спасаться. Везли и привезли на мою малую Родину, в саманный дом на берегу канавы, чтобы потом я подружился с псом Джи, жеребенком Ви, чтобы спас от змеи-медянки маленького зеленого лягушонка, чтобы научился месить саман и, пронзенный шестым чувством, понял однажды, что не освободиться мне никогда от собственной тени, да и не надо от нее освобождаться – вдвоем веселей.
На дне стакана еще осталось немного ракии, и я стал смаковать каждый малюсенький глоток, обжигающий язык и небо. Я думал обо всем понемногу, и картинки прошедшей жизни мелькали передо мной одна за другой, как цветные стеклышки в детском калейдоскопе, когда его встряхнешь как следует.
Есть застывшее выражение – «перед моим внутренним взором». Хорошее выражение, точное, как и все штампы, что изначально были откровениями. Я, кажется, уже писал об этом однажды, но ничего – «от повторения молитва не стареет», тоже штамп, но зато какой хороший, штамп на все времена.
Однако те картинки, что мелькали перед моим внутренним взором, мелькали как-то странно, как бы и не в моем сознании, а вне его, самостоятельно. В глазах моих стояли слезы, и хотя я уже не плакал, но все мелькающее перед глазами, все, что я видел, слегка дрожало и словно плыло в легком радужном тумане.
Я смотрел вниз на заметенную светлым песком округлую сцену древнего театра и видел там моих любимых бабушек, играющих за сияющим лемовским самоваром в подкидного дурака – двое на двое; видел Аду, который быстро ходил по комнате туда-сюда, и его тень переламывалась на потолке. Потом на сцене вдруг сделалась ночь, завыли, заплакали младенческими голосами шакалы и стали неотвратимо надвигаться на меня. Все ближе и ближе мелькали при свете полной шафрановой луны зловещие зеленые огоньки их глаз, но тут метнулся ко мне от коровника пес Джигит, громко залаял, заквакали тысячи лягушек по берегам поросшей колючей ежевикой канавы. Мой свист, лай Джигита, кваканье лягушек напугали шакалов, и мир был спасен. На сцене опять стало светлым-светло, и я услышал звуки зурны, на которой играл мальчик-инвалид в белом ауле под синей горой, тот самый, которого возил в город к доктору, а потом возил показать мальчику море вблизи мой Ада.
Потом на сцене древнего театра откуда ни возьмись возник красноперый петух Шах со своими курами, среди которых он ходил очень важно, значительно, видно, обдумывал, которую из них потоптать.
Исчез и петух, и куры, а через всю сцену прошел дедушка Дадав в старом бешмете. Мы с ним всегда дружили, иной раз дедушка Дадав гладил меня по голове и говорил ласково: «коп якши баранчук», что значит – хороший мальчик. Я так и не понял, куда он пошел, миновав сцену, домой или в тюрьму за то, что неправильно вытер бритву о слишком важную газету.
Потом на сцене появился картонный ящик, прикрытый моей ветхой рубашкой без воротника. В ящике пищали желтенькие цыплята, такие хорошие, такие радостные! А мой воротник остался в железной пятерне конвоира – это я всегда помнил, хотя и никому не рассказывал.
Если мир – театр, а все мы – статисты, то не зря я видел свою жизнь на этой древней, заметенной светлым песком сцене, в краю, где промелькнула впервые сама возможность моего появления на свет Божий.
Потом я услышал, как тетя Мотя сказала кому-то:
– Детишки кучкуються, а наш стоить по пид забором в фуфаечке, един, як прынц.
Наверное, она сказала это, когда я был уже во втором или в третьем классе, и, видно, время года было холодное.
Увидел я и живые золотистые канты света вокруг одеяла, которым занавешивал от солнца окно в тот день, когда пришло казенное письмо об отце.
Увидел и юное лицо моего бесценного друга Шамсула, который, провожая меня в армию, проехал на крыше поезда много километров от Махачкалы.
А потом друга Гаджи, с которым мы служили в одном отделении и подружились на всю жизнь. Он невысокого роста, но необыкновенной физической силы и такой же необыкновенной честности.
Затем промелькнули над сценой молодые лица умных, талантливых друзей моей более поздней молодости: Камала, Магомед-Расула, Ахмеда, Ибрагима.
Многие знают, что в Дагестане живут испокон веков десятки национальностей и народностей, но мало кто отдает себе отчет в том, что язык общения у всех у них один – русский. Мой друг Гаджи и его жена красавица Анисат по национальности аварцы, но из разных аулов, поэтому, чтобы лучше понять друг друга, они говорят между собой по-русски.
Сейчас можно услышать, что при советской власти была игрушечная, липовая дружба народов. Мой личный жизненный опыт это не подтверждает. У нас в мамином дворе жили дети десятков национальностей, и никто из нас никогда не интересовался ничьей национальностью. Главными были личные качества, только и всего. Я объехал на лошади и обошел пешком и Дагестан, и Чечню, и Кабарду. Никогда у меня не было в кармане даже перочинного ножика, и никогда никто не тронул меня пальцем, и везде я, как путник, мог рассчитывать на стол и кров.
Я протер глаза и увидел внизу, на древней сцене, видавшей и греческие трагедии, и бои гладиаторов, больничную палату на 10 коек и на одной из них моего Аду.
И в девяносто один год он ходил, как бывало, туда-сюда по комнате, и всегда у него были дела «в одном месте, у одного человека». В 76 лет он начал строиться и почти построил пять домов. Почему почти? Да потому, что он их никогда не достраивал, продавал и начинал новый на новом месте. Хорошо помню, что летом я всегда спал в недостроенном доме, с незастекленными окнами, без дверей, но под крышей. Помню золотые полосы света, пересекающие комнату, где я спал и просыпался от того, что рядом, у забора, уверенные, что я сплю, ругались тетя Мотя и наша соседка слева тетя Клава. Ой, как они матюкались за то, что чья-то курица зашла не туда, какими проклятиями осыпали друг друга.
Когда в новые, антисоветские времена непечатное слово вдруг стало печатным и даже желанным на страницах газет, книг, журналов, на телевидении и в Интернете, я, хочешь не хочешь, улавливал иной раз краем глаза кое-что, но какие унылые это были потуги на русский мат, какая жалкая, бледная немочь! Точно по Есенину: «А те, под хладным солнцем зреют, бумаги даже замарать и то, как надо, не умеют».
Тетя Мотя и Клава ругались виртуозно, с таким буйством фантазии, что это был даже уже и не мат, а нечто другое. Когда они, наконец, иссякали, я опять засыпал, а просыпался, как правило, от елейного, но очень пронзительного голоска Клавы: «Моть, а Моть, ну че ты серчаешь? Иди, я вже самовар вздула». Добрые соседки как ни в чем не бывало садились пить чай, а я вставал ото сна.
И сейчас, когда я смотрел вниз на сцену с больничной палатой, в памяти моей пронеслось, как безукоризненно ухаживала тетя Мотя за тетей Нюсей, когда та слегла в тяжелой болезни и лежала несколько месяцев, как следила она за тем, чтобы у тети Нюси не было пролежней.
А в больничной палате на 10 коек умирал мой Ада. Он работал на огороде и лопатой поранил ногу, обратились к врачу поздно, когда началась гангрена. Тетя Мотя дала согласие на операцию. Из милосердия: если и умрет, то хотя бы не в таких мучениях. И вот он умирал. Тетя Мотя сидела на табуретке у его кровати, я и мой единоутробный брат Володя стояли.
Больные, кто лежал, кто сидел, не глядя в нашу сторону, кто мог выйти из палаты, вышел, чтобы не видеть агонии.
Мы видели. Ада дышал глубоко, трудно, стонал, порывался подняться, вскрикивал. Я даже расслышал:
– Тши…
Показалось, что он хотел сказать мне:
– Тшимайся, дитяка, тшимайся!
На том месте, где раньше круглилась нога, теперь была под одеялом впадина, пустое место.
Ада почти приподнялся на локтях, его еще полные света синие глаза блеснули, но тут же он упал на спину и скоро затих.
Врач констатировала смерть. Она была еще совсем молоденькая, и, когда мы входили в больницу, я видел, как какой-то дядька в белом халате тискал ее в темном углу коридорчика. Она не настаивала на вскрытии, сказала нам очень буднично:
– Бумажки сейчас оформим. Забирайте.
И вот мы везли Аду домой, в последний, все-таки достроенный им большой саманный дом, с которого я и Ленка потом даже получили наследство.
В высоком черном небе летела вслед за нами полная ядовито-зеленая луна. Мы везли Аду в кузове грузовика, тетя Мотя сидела в кабине. Брат говорил, что на мне была белая рубашка, а Ада был накрыт белой простыней, и от его тела все еще исходило тепло.