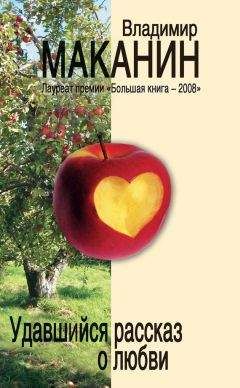Ехали обратно, назад, молодой Квасницкий сидел рядом с отцом, вел машину, смеялся, но рассказывал немного, сдерживался – ясно было, что всякие детали и неожиданную комичность ситуации он выложит в отделении милиции окружающим и, конечно, Лапину, когда его увидит. Зато внутри машины уже сейчас был смех, разрядка. Милиционеры, не стесняясь нимало сидящего там же Енахова и, может быть, даже заговаривая с ним, хохотали.
Машина с Енаховым направлялась в камеру предварительного заключения, но прокурору делать в КПЗ было нечего.
– Высади, – прокурор хотел немного пройти снегом и предчувствовал, что будет хорошо и что метель будет в спину.
– В прокуратуру?.. Поздно уже, батя.
Молодой Квасницкий не сразу захлопнул дверцу машины, смотрел на отца и морщился от залетающих снежинок. Прокурор махнул рукой. Ветер в спину хорошо влек, толкал, и асфальт был не так уж занесен. Редких ночных прохожих трепало – они шли навстречу ветру, они будто барахтались, пряча лица. Фонари ослепли и едва видны были в сплошном и летящем белом месиве.
Прокурор поднялся к себе на второй этаж – куда было спешить? – дома его уже много лет никто не ждал. В прокуратуре было пустынно; кажется, Шириков да Лапин сидели каждый у себя, в остальных комнатах – темно. И однако прокуратура жила и птицами, которые слепо, по-ночному вдруг начинали торкаться в окна, и коридорами, и темными углами. Все это дышало, тихо и для других неслышно. Дышало, жило – этакая теплая душа прокуратуры, расположившаяся на отдых и призаснувшая. Прокурор не хотел уходить на пенсию, он два года назад мог уйти. Одни будут объяснять это тщеславием, другие – деньгами, а что они понимают? Прокурору хотелось быть до самой смерти с этим старым домом. Прокурор глядел на ремонтируемые стены коридора, с которых, казалось, содрали кожу, и стены были теплы, кровоточащи и нежны для него.
* * *
Он прошагал мимо комнат следователей. В предприемной своего кабинета он увидел свет – неужели забыл? – плохо. Признак плохой, когда тебе уже немало лет. Прокурор вошел, сел в свое кресло и так сидел. Смотрел в пол, на следы от коридорной ремонтной грязи.
Затем он поднял глаза – в дверях стоял Лапин.
– Шаги ваши услышал. Добрый вечер… Вызывали меня?
– Да, – сказал прокурор. Он не знал, как начать разговор, затем обдумал слова и молчал. И это он уже ждал, пока Лапин закурит, усядется и вытянет ноги.
– Как жизнь, Юра?.. Расскажите.
Лапин уже и правда уселся и ответил, как отвечают обычно, что неплохо. Спасибо. Все, в общем, неплохо.
– Рукавицын как? Друг ваш беспокойный, как он?
– Не ворует.
– Поумнел?
– Поумнел. Помудрел. Жениться собрался.
– Рукавицын? Не может быть?
– Правда… – Лапин глядел на свои пальцы с зажатой сигаретой и неторопливо рассказывал, что Рукавицын, видимо, скоро женится на Лиде Орликовой. Да, на дочери Анны Игнатьевны. И женится, и хочет машину себе купить. Уже наметил. Американскую…
– Это уж обязательно! Конечно, американскую! – улыбнулся прокурор. – Д-да, доставил он нам хлопот…
Прокурор замолчал, сделал паузу. Он вспомнил один случай с Рукавицыным, и Лапин, разумеется, должен был сейчас тоже вспомнить. Были и другие случаи с дружками Лапина, всякие были, но этот как-то помнился прокурору больше. Года три назад Рукавицын был в бегах, и Елютин из милиции вот-вот уже забирал его. И этот самый Рукавицын не нашел ничего лучшего, как спрятаться у Лапина. Ну, Елютин тоже был молод, горяч, сутки шел по следу, и, когда Лапин не отдал Рукавицына, требуя ордер на арест, Елютин схватился за оружие и не своим голосом кричал: преступник есть преступник! какой там ордер!.. И Лапин тоже взбеленился – вытолкал Елютина из квартиры и запер перед самым носом дверь. И еще замял все, спрятал концы. На грани дело было…
– Д-да. Доставил он хлопот.
– Доставил, – Лапин согласился и тут же смолк. Но прокурор уже чувствовал, что Лапин вспомнил – если и не тот случай, то другой – прокурору сам случай был и неважен, несуществен. И хотелось лишь, чтобы Лапин (или кто-то другой) лишний раз припомнил, что работал он с человеком, не просто с начальником.
– Я, Юра, ухожу скоро… Вообще ухожу.
– Я знаю, слышал…
– Я думал, не знаешь. Вот это, собственно, я и хотел сказать.
Я помню, что в этой самой женитьбе Перейры-Рукавицына были свои тонкости. Свои и особенные черточки.
В войну Анна Игнатьевна Орликова – мать Лиды – организовала вместе с Павлом Ильичом детдом. И даже полгода занималась с нами, хотя у нее была своя работа. Мы, как это бывает у выросших детей, прекрасно помнили Анну Игнатьевну, подходить не подходили, но на улицах всегда здоровались. Для Рукавицына было важно: помнит ли она?.. Помнит ли, что Рукавицын, например, воровал в детстве, причем воровал не как мы, а напористо, без колебаний, и выкручивался с незамутненной совестью гения, он гений и потому все может.
– Плохое помнит или хорошее – мне неважно. Мне важно – помнит ли? – объяснял Рукавицын и посылал Лапина вперед себя, чтобы проверить на нем.
А мы смеялись:
– Ну, даже если она узнает тебя? Чего ты боишься?
– Я, Юра, ничего и никого не боюсь. Мне важно знать: помнит она или не помнит? Если помнит – это одно. Если нет, я могу сразу же держаться у них дома свободнее и проще.
Он еще и поучал:
– Войти в чужой дом – это не простое дело, ребята.
Он чуть ли не гнал Лапина к ней:
– У тебя, Юра, лицо жесткое и мощное, так сказать. И, между нами говоря, чурбанистое слегка, – говорил Рукавицын, и это он уже маскировался смехом. – Если уж старушка тебя не вспомнит, то я могу быть…
* * *
Анна Игнатьевна учительница и, кроме того, выбиралась на различную некрупного ранга общественную деятельность – потому-то у нее было много посетителей и потому-то Лапин смог сидеть у нее сколько угодно.
Посетители распивали чай, были тут и с искренними жалобами, были и проходимцы, и все время Анна Игнатьевна записывала, объясняла, звонила и была как из старой и очень доброй книги. Глаз следователя быстро приметил, что она не всегда разбирается в психологии жалобщика, но тут уж надо было сидеть молча, лишь отмечая, что чужая профессия это все-таки чужая.
Все разошлись – Лапин как-то незаметно для себя остался. Кроме него был лишь один посетитель. Анна Игнатьевна говорила:
– Поймите. Поверьте мне. Если я соглашусь, то это еще ничего не значит. Я ведь не жилищная комиссия.
– Как так? – спрашивает посетитель.
– Я одна не решаю, решает вся комиссия…
– Да-да. Понимаю. Понял.
Посетитель прекрасно знал дело – в первый приход нужно было лишь поддакивать, он это и делал. Он заранее запасся терпением, готов был выслушать любую истину, а если можно – все их, то есть истины, разом, чтоб покороче. Лапин сидел рядом с ним. Посетитель говорил с Анной Игнатьевной, поддакивал, но иной раз, будто нечаянно, взглядывал в сторону Лапина и соображал: не пришел ли Лапин тоже добиваться квартиры – не конкурент ли?
– Я одна не решаю, товарищ… Вы старайтесь думать, как все остальные отнесутся – понимаете, все остальные! – к вашей просьбе.
– Да-да. Верно.
– Ведь вопрос решается коллективно…
– Да-да. Верно.
Лапин сидел сбоку от них, пил чай. Уже было ясно, что она не вспомнила Лапина и не вспомнит. И Лапин не мог бы сказать точно, зачем он продолжает сидеть здесь так долго. Анна Игнатьевна всего-то и нянькалась с ними в детстве полгода, где ж упомнить. А иногда Анна Игнатьевна приводила детей сюда, к себе домой, – приводила накормить, объяснить что-то или выговорить. Углы и вся мебель, пузатый комод и фикусы были очень знакомы Лапину, то есть не то чтобы знакомы, а как-то узнаваемы. На этих вещах будто бы остался след того превращения, что случилось с Лапиным, точка соприкосновения с тем временем, когда он весил всего сорок кило, а может быть, и поменьше.
– Нет-нет, и не спорьте, – говорила Анна Игнатьевна посетителю. – А вот вы, я все забываю вашу фамилию, простите…
– Лапин.
– Да. Вот вы тоже, видимо, подтвердите этому товарищу, что чувство коллектива – чувство непростое, временем диктуемое.
Лапин сказал, что да, что, конечно, непростое. Лапин смотрел сейчас на стулья. Старые и разлапистые ножками – стулья не были одинаково безликими, как в детском доме. Стулья Анны Игнатьевны и углы квартиры были для ребят неизвестным и приманчивым мирком. Можно было вон там побаловаться, забраться за фикус и выглядывать, как из-за куста, в вечернем свете лампы, и, если даже Анна Игнатьевна приводила сюда кого-то побранить, ему завидовали. Ходили слухи, что счастливчик Ампилогов как-то незаметно залез за шкаф и был, провел там целую ночь. Анна Игнатьевна очень ругала их в тот вечер, они не выучили «Быть или не быть» – она ругала, потому что они вполне могли выучить, ведь монолог Гамлета был в меру сокращен. Ребят построили в линейку; испуганные, полуголодные, ковыряющие в носах, они чувствовали себя пристыженными. Они любили Анну Игнатьевну за ее ласку, за подкармливание, за ее квартиру с таинственными, пахнущими матерью углами. «Рвачи! Халтурщики!» – кричала Анна Игнатьевна, она была вся красная и злая, она так надеялась, что они выучат монолог, займут делом поздний свой вечер и не будут от безделья детского ковыряться в носах или того хуже. Анна Игнатьевна, несомненно, добра им хотела, она заплакала, и добрая четверть ребят заплакала тоже, хотя многие притворно.