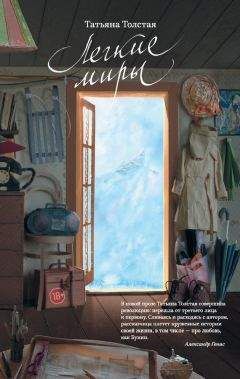Полтораста лет подряд это были собачка и лошадь. Две невинные жертвы людских страстей. Милые такие имена, и за обоими судьба и гибель.
Теперь это кривая корова и недофрукт.
Глупеем.
Бог с ними, с неправильными ударениями и неумением управиться со сложными (и просто длинными) числительными. Происходят какие-то диковинные – на уровне глубокого синтаксического залегания – изменения. Откуда-то выполз и разросся «о том». Мое ухо ловит и фиксирует его, пожалуй, последние лет десять. Но до этого я жила в Америке и все пропустила. Когда он завелся, кто помнит? Вот сейчас тетя, комментирующая легкую гимнастику (брусья), сказала: «Мы сейчас видели о том…» и не поправилась, не смутилась. Показалось ли мне, что после этих слов она запнулась на миг? Или это она просто загляделась на гимнасток?
Я помню свой ужас, когда после десяти лет жизни в Америке я стала ловить себя на синтаксических ошибках в русском языке. Ухо слышало ошибки, но уже после того, как они были совершены. Вот так два-три раза ошибешься (а происходит это автоматически; в основном это кальки с английского) – и потом уже сам себе не доверяешь.
Начинается, конечно, с лексики. В начале девяностых приезжаю после годового отсутствия – все молодое поколение говорит «феньки», «мульки» и «фишки». Если эти слова и употреблялись раньше, то не в Москве и не в таком количестве! А поколение постарше начало говорить «по жизни», чего старожилы (я, например) не упомнят.
Мне нравится смотреть, как язык принимает одни слова и отбрасывает другие, как возникает мода то на одни, то на другие выражения; я примеряю новые слова и прикидываю, подойдут ли они мне или я этого носить не буду. В конце восьмидесятых (когда возникли кооперативы) я зашла в аптеку, в которой было практически пусто – бинты, да цитрамон, да кружки Эсмарха из военных запасов, – и застыла, глядя на ценник. На нем было написано непонятное: «Приспособление под натоптыш». Слова такого я не знала, но через секунд семь я поняла, что имелось в виду. Само приспособление меня не заинтересовало, а слово показалось интересным, нарядным, как вятская игрушка. Правда, больше я нигде и никогда этого слова не встречала.
Через несколько лет, когда возникли феньки, мульки и фишки, я сама не сумела справиться. Пришлось просить молодое поколение объяснить, в чем тонкость дефиниций. Молодое поколение честно старалось, но пояснить не сумело. В этом случае скорее говорят вот так, а вот в этом случае – скорее вот сяк, говорило молодое поколение. Прояснения не наступило: словом «фишка» я овладела, но двух других опасаюсь.
А еще через год-два Москва встретила меня словами: «Купите болюсы Хуато!» Реклама в метро, на улице, в газетах просто надрывалась: вы еще не купили болюсы Хуато? Вам срочно нужны болюсы Хуато! Лживые и продажные люди протягивали мне что-то с экрана телевизора: вот ваши болюсы! У всех уже есть болюсы Хуато! Счастье в болюсах!
Что это такое, я и сейчас не знаю. Лекарственные добавки? Акции нефтяного месторождения? Резиновые изделия? Круглые они или длинные? В порошке или кусками? Не знаю и знать не хочу: если вы знаете, то не говорите мне. Ясно одно: таких слов в русском языке нет и знать их мне не надо.
Но это всё слова, они пришли и ушли. Носили кофточку беленькую в кружавчиках – носим кофточку красненькую в полосочку. А вот синтаксис – это совсем другое. Это как если бы стали рождаться одноногие или трехглазые, и пришлось бы пересматривать покрой брюк или форму очков кардинально. «Видим о том». Что это, Бэрримор?
Интересное явление: огромное количество людей боится, БОИТСЯ уменьшительных суффиксов. Им кажется, что это пафосно, слюняво, сентиментально, глупо, по-детски – что?
Я лично совершенно не боюсь уменьшительных суффиксов. Они – прекрасный инструмент, с помощью которого можно передать много оттенков смысла и настроения. Просто ими надо управлять, а не пугаться.
– Морковочки положить? Хлебца? Колбаску кушайте, – это вот все правильно. Так надо, так угощают, так говорят за столом, словами выстраивая защитный колпак, купол над людьми, севшими за трапезу и потому незащищенными, не готовыми к нападению, отстегнувшими оружие. Слова подают сигнал: тут мирно, тут спокойно, уютно, как в детстве; расслабьтесь.
Вы же не будете говорить: «Ешьте морковь». Она же колом в горле встанет.
«Вот колбаса».
«Жуй хлеб».
Даже на письме слышен грубый голос говорящего. «Рябчиков жуй».
«Картофель остыл».
«Я поел говядины».
Человек за столом раним. Типичное средневековое коварство: позвать на обед и внезапно напасть на доверившихся, мирно евших, а уж тем более пивших. Поэтому все уменьшительные, связанные с едой, отзвучивают не слюнявым сюсюканьем, а поиском безопасного укрытия, огонька избушки в лесу (да, огонька избушки, а не огня избы!), какой-то просьбой о перемирии, снисхо-ждении, дружбе. Отсюда и новые (насколько я могу судить) «мяско» и «сырик».
Услышьте их в этом контексте. Вот жена мужу говорит в магазине: «Какой сырик купим?» Это она не к сырику любовь испытывает, это она воркует с мужем, с его непредсказуемым настроением («То ему – то. А то раз! – и это», – как говорила героиня Мордюковой). А вдруг он будет туча тучей? А вдруг его мысли далеко, не с ней вот сейчас? Суффиксы задабривания, обещания, доверия – вот что такое эти «пищевые уменьшительные».
И наоборот, эти бессуфиксные, холодные приказы от тиранических жен за пятьдесят своим мужьям – «возьмешь мяса, колбасы по 450», etc. – какое кладбище чувств. Глянешь краем глаза – а он такой весь в тоске, и бес из его ребра торчит, тщательно прикрытый ковбойкой. Замучила. Теперь домучивает и стережет.
Винцо и водочка. Селедочка под свеколкой. Картошечка. (С сольцой.) И с лучком. Маслице, особенно маслице. Колбасынька. Яичечко. Сырик. На хлебушке. Потом чаёк.
И спатеньки.
В советское время был распространен такой журналистский говорок, который у нас дома назывался «госзадушевность».
Это были особые интонации на радио / ТВ: открыли, допустим, новую школу или там хлев – и голос у диктора такой теплый-теплый, до рвоты. Но ладно голос, а вот газетные словечки, фразы, клише, пропитанные особой фальшью, были совершенно невыносимы.
«Чуткий», например. Какие-нибудь партийные хряки, гоголевские заматеревшие свинорыла, в своей чиновничьей функции были «чуткими». Менты или пожарники обязательно «дарили людям хорошее настроение». Если случался худо-бедно «творческий» гражданин, художник или музыкант, то он «дарил радость», а просто так, для заработка, работать было неприлично. Надо было обязательно дарить.
А вот педагог или писатель, а то и сам журналист (публицист) «делился наболевшим». Мне в детстве всегда представлялось, что он харкал в лицо или сплевывал туберкулезную мокроту в мисочку, а потом протягивал желающим, а не то охотно предоставлял содержимое гнойных пустул. Как в детской считалке:
Шел солдат с бою,
Нес бутылку гною.
Кто слово пикнет,
Тот ее и выпьет.
При этом пакостная эта фразеология – не советского происхождения, а идет из XIX века, из демократической публицистики, такой честной, порывистой, пафосной, но такой оглушительно, вопиюще безвкусной, антиэстетической, глухими публицистами для слепых читателей с лучшими намерениями коллективно наворачиваемой. Вся вот эта писаревщина, «сапоги выше Пушкина», да, собственно, и сам суффикс «-щин-», подхваченный бойким многопишущим, многоликим ильичом сотоварищи: сначала достоевщина, клюевщина, есенинщина, а там и золотая Колыма, и расстрелы, и круговорот «кровавых костей в колесе» – всё оттуда, всё нечистым, липким, мармеладно-каловым комком.
Но я-то жила в советское время, и этот говорок (по-научному, дискурс) представлялся именно что советским: он расцвел и укрепился в советское время; тонкая материя распадается, а румяные черви только крепнут и плодятся. На короткое время (конец восьмидесятых – начало девяностых) говорок отступил, потому что фальшь перестала быть востребованной. А нынче… погляди в окно.
Как оно всегда и было, южная пышность была куда производительнее северной скудости. Писали-то плохо многие, но я отдаю первый приз с бантом одному украинскому письменнику, напечатавшему в конце восьмидесятых скорбное прощальное слово о своем товарище по перу… вроде бы товарища Евгеном звали. Этот Евген, сообщал нам письменник, был чудо как хорош в моральном, нержавеющем плане: он «снимал врачующим бичом полуду с наших глаз».
Стоя в очереди на кассу в «Перекрестке», вынуждена была раз семь выслушать рекламу шоколада какого-то там. В «Перекрестке» не разнообразят рекламные ролики, а крутят всё один и тот же по многу раз подряд, пока не добьются стойкого отвращения к рекламируемому товару – интересная тактика, не иначе они тайные оппозиционеры, борцы с буржуазным строем.